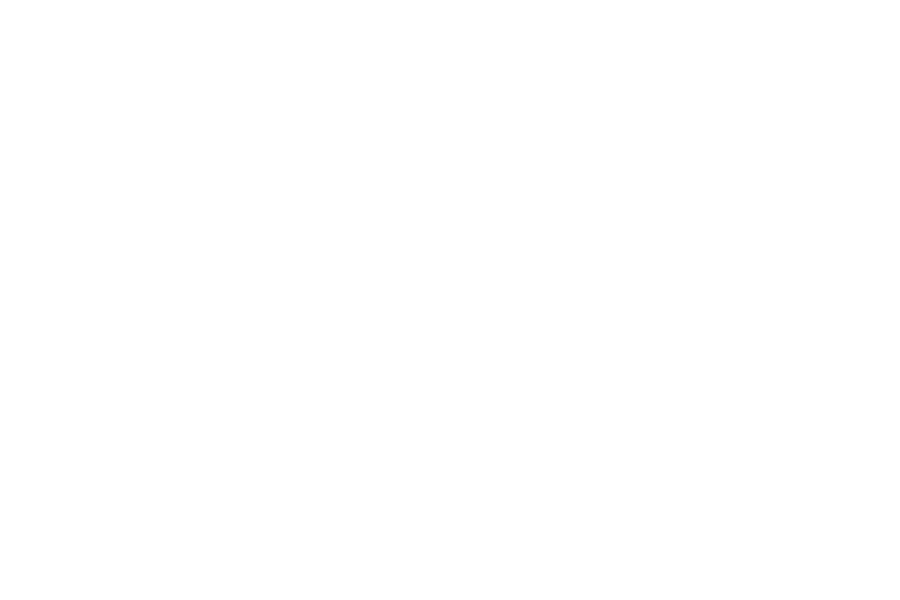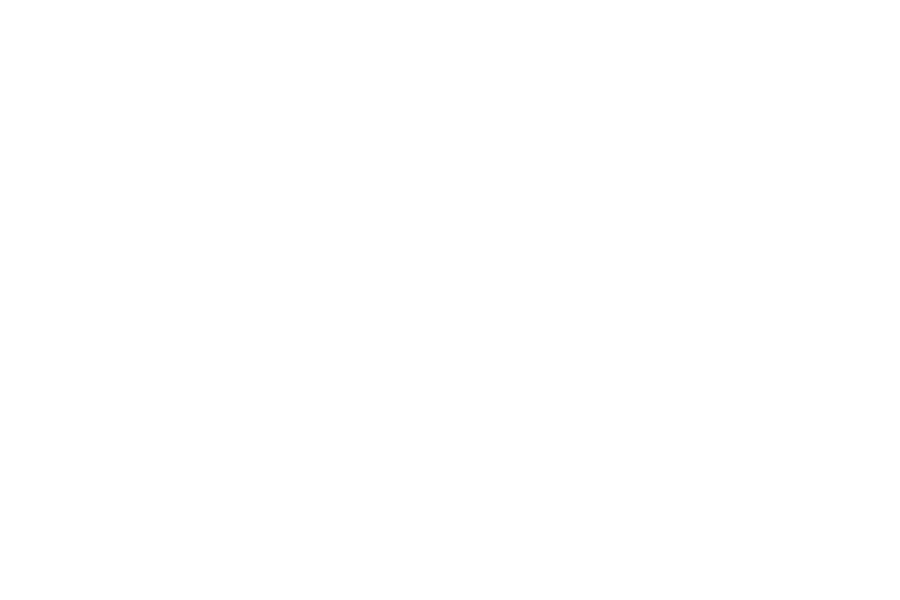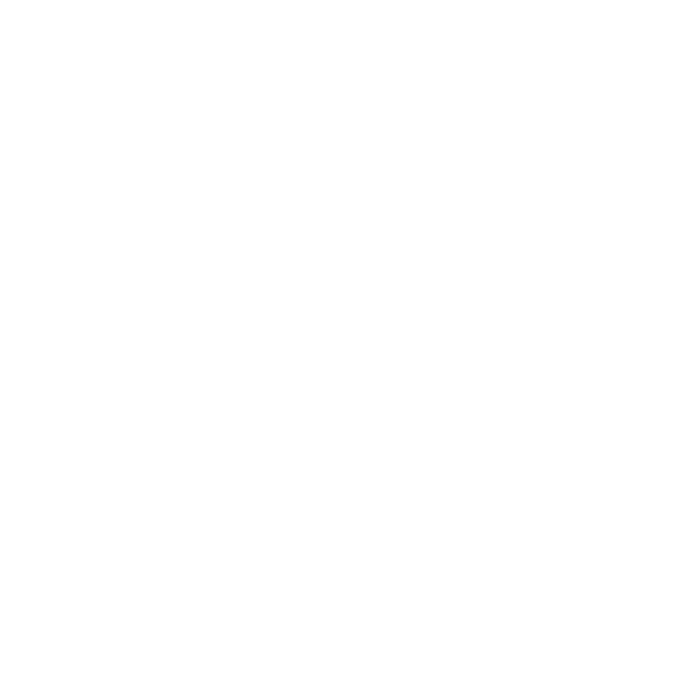
Александр Румянцев —
ученый, министр, дипломат
ученый, министр, дипломат
Экс-глава Минатома, бывший посол РФ в Финляндии, академик РАН Александр Румянцев рассуждает о состоянии российской науки, вспоминает о самых сложных и радостных моментах своего руководства атомной отраслью, рассказывает о том, какой он видит и знает Финляндию.
Автор: Ирина Сухарева
Фото: «Атомный эксперт»
Автор: Ирина Сухарева
Фото: «Атомный эксперт»
Символично, что наша беседа происходит в день открытия общего собрания членов Российской академии наук. Такие собрания, как правило, проходят дважды в год. Сегодняшнее связано с принятием поправок в устав РАН: после майских указов президента вышли новые законодательные акты, связанные с наукой, и нужно было привести устав Академии (расширяющий, кстати, ее права и обязанности) в соответствие с ними.
Честно говоря, я — член Академии больше 20 лет — давно не видел такой повестки дня в РАН. Она посвящена стратегическим направлениям развития науки в России и прорывным экономическим явлениям, связанным с внедрением результатов научных исследований в экономику. Участвуют такие крупнейшие корпорации, как Росатом, Газпром, «Силовые машины». Наука и производство активно интегрируются в жизнь.
Конечно, за последние 20 лет наука сильно изменилась. РАН, например, раньше была юридическим лицом, объединявшим значительное количество научных институтов (как технических, так и гуманитарных, в том числе и занимающихся фундаментальной наукой) — в общем, это было государство в государстве.
Российская (и советская) наука всегда была востребована за рубежом: мы выигрывали крупные гранты, наши научные сотрудники стажировались в ведущих зарубежных центрах. Я сам долгие годы работал в тех центрах, где занимались физикой конденсированного состояния с помощью рассеяния тепловых нейтронов. Один из крупнейших таких центров находится в Институте Лауэ-Ланжевена в Гренобле. В его строительстве принимали участие Франция и Германия, потом Великобритания финансово вложилась в проект и тоже стала полноправным членом. Россия поставляла туда свежее ядерное топливо для производства активной зоны и была ассоциированным членом.
В 1978 году я выиграл первый зарубежный грант, давший мне право провести эксперимент на исследовательском реакторе в Гренобле. Я изучал спектр колебательных, или фононных, возбуждений в твердых телах с помощью рассеяния нейтронов. Серии таких экспериментов обычно длятся две-три недели, круглосуточно. В Курчатовском институте я работал на исследовательском реакторе — ИР‑8, там я имел неограниченное время. Но у реактора в Гренобле нейтронный поток был раз в 5−7 больше, и все мелкие, труднодоступные на нашем исследовательском реакторе детали этих спектров возбуждения изучались там.
Честно говоря, я — член Академии больше 20 лет — давно не видел такой повестки дня в РАН. Она посвящена стратегическим направлениям развития науки в России и прорывным экономическим явлениям, связанным с внедрением результатов научных исследований в экономику. Участвуют такие крупнейшие корпорации, как Росатом, Газпром, «Силовые машины». Наука и производство активно интегрируются в жизнь.
Конечно, за последние 20 лет наука сильно изменилась. РАН, например, раньше была юридическим лицом, объединявшим значительное количество научных институтов (как технических, так и гуманитарных, в том числе и занимающихся фундаментальной наукой) — в общем, это было государство в государстве.
Российская (и советская) наука всегда была востребована за рубежом: мы выигрывали крупные гранты, наши научные сотрудники стажировались в ведущих зарубежных центрах. Я сам долгие годы работал в тех центрах, где занимались физикой конденсированного состояния с помощью рассеяния тепловых нейтронов. Один из крупнейших таких центров находится в Институте Лауэ-Ланжевена в Гренобле. В его строительстве принимали участие Франция и Германия, потом Великобритания финансово вложилась в проект и тоже стала полноправным членом. Россия поставляла туда свежее ядерное топливо для производства активной зоны и была ассоциированным членом.
В 1978 году я выиграл первый зарубежный грант, давший мне право провести эксперимент на исследовательском реакторе в Гренобле. Я изучал спектр колебательных, или фононных, возбуждений в твердых телах с помощью рассеяния нейтронов. Серии таких экспериментов обычно длятся две-три недели, круглосуточно. В Курчатовском институте я работал на исследовательском реакторе — ИР‑8, там я имел неограниченное время. Но у реактора в Гренобле нейтронный поток был раз в 5−7 больше, и все мелкие, труднодоступные на нашем исследовательском реакторе детали этих спектров возбуждения изучались там.
О лекторе
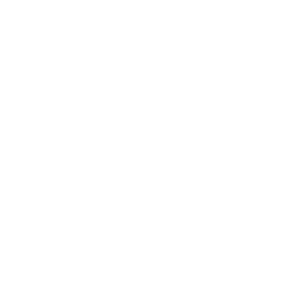
Александр Юрьевич Румянцев родился в 1945 году в самой южной точке Советского Союза — городе Кушке Туркменской ССР.
В 1969 году окончил Московский инженерно-физический институт по специальности «Физика твердого тела» и был распределен в Курчатовский институт, где прошел путь от младшего научного сотрудника до директора. Исследовал структуру и динамику кристаллической решетки твердых тел методами рассеяния нейтронов. Мировую известность как ученый получил благодаря работам по изучению фононных спектров металлов, сплавов и соединений методом неупругого рассеяния тепловых нейтронов. Автор более 80 научных статей и докладов. Лауреат Государственной премии СССР 1986 года в области науки. Доктор физико-математических наук, профессор.
В 2000 году Александр Юрьевич был избран академиком Российской академии наук.
В 2001 году назначен министром РФ по атомной энергии, став самым молодым руководителем на этом посту. Александр Юрьевич возглавлял атомную отрасль до 2005 года.
С 2006 по 2017 год занимал должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Финляндии.
В 1969 году окончил Московский инженерно-физический институт по специальности «Физика твердого тела» и был распределен в Курчатовский институт, где прошел путь от младшего научного сотрудника до директора. Исследовал структуру и динамику кристаллической решетки твердых тел методами рассеяния нейтронов. Мировую известность как ученый получил благодаря работам по изучению фононных спектров металлов, сплавов и соединений методом неупругого рассеяния тепловых нейтронов. Автор более 80 научных статей и докладов. Лауреат Государственной премии СССР 1986 года в области науки. Доктор физико-математических наук, профессор.
В 2000 году Александр Юрьевич был избран академиком Российской академии наук.
В 2001 году назначен министром РФ по атомной энергии, став самым молодым руководителем на этом посту. Александр Юрьевич возглавлял атомную отрасль до 2005 года.
С 2006 по 2017 год занимал должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Финляндии.
В Гренобле образовалось «нейтронное братство», туда съезжались физики со всего мира: из Австралии, Соединенных Штатов, Италии, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Индии.
Все мы мечтали, чтобы кто-нибудь из наших коллег получил Нобелевскую премию. И вот в 1994 году американец Клиффорд Шалл и канадец Бертрам Брокхауз — наши мэтры (я, например, продолжатель той науки, которой занимался Берт Брокхауз, это нейтронная спектрометрия на кристаллическом спектрометре) — получили Нобелевскую премию за развитие метода рассеяния нейтронов применительно к исследованию твердого тела. Для нас это был праздник!
В СССР и России наука всегда была коллективизирована: институты активно сотрудничали. У физиков это сотрудничество всегда очень широкое, потому что некоторые исследуемые образцы синтезируют химики, или металлургические институты, или даже заводы. Например, когда я изучал спектр колебания решетки в благородных металлах (рутении, рении, осмии), на Свердловском заводе по обработке цветных металлов (это аффинажная фабрика, где, в числе прочего, очищают золото) для меня вырастили монокристаллы из благородных металлов. Я дал все подписки от имени института, предоставил гарантийные письма, и через два-три года все эти благородные металлы вернул, согласно актам.
Естественно, все эти люди — химики, металлурги — становились соавторами работ, потому что сделать качественный образец для исследований — это задача, достойная соавторства.
Когда настали трудные времена — 1990-е годы, — всем нам, физикам, было трудно: финансирование уменьшилось. Но мы все же имели гранты и жалели гуманитариев, особенно филологов, историков, потому что понимали: им-то совсем неоткуда добывать деньги.
Сейчас возникло разобщение, многие ушли из науки — кто-то уехал, кто-то занялся бизнесом. Это очень энергичные люди — например, среди моих учеников есть два очень крупных бизнесмена, в прошлом талантливые физики, и я ими горжусь. Приятно, когда молодые люди делают большие состояния, это серьезный труд — создать востребованное направление в бизнесе и получить солидные дивиденды.
В Росатоме этот год объявлен годом науки. В начале апреля произошло важное событие — большая отраслевая научная конференция, на которой присутствовали и представители энергетики, и все ведущие ученые во главе с президентом Академии наук.
Мы договорились, что будем работать сообща. Глава Росатома Алексей Лихачев создал комитет по науке, который должен рассматривать все стратегические направления научных исследований нашего ведомства, рекомендовать оптимальную кооперацию с другими ведомствами, госкорпорациями и предприятиями, исходя из богатого опыта 12 его членов, среди которых три бывших министра (Лев Рябев, Евгений Адамов и я) и четыре академика (Радий Илькаев, Георгий Рыкованов, Валентин Смирнов и опять же я).
Сегодня на заседании Российской академии наук выступили члены этого комитета: Алексей Дуб и Виктор Ильгисонис. То, что представители нашей отраслевой науки выступают с докладами в высшем научном органе, подчеркивает, что Академия находится на хорошем уровне. Виктор Ильгисонис рассмотрел основные тренды и проблемы, стоящие сегодня перед атомной отраслью. Он говорил о том, как будут развиваться и совершенствоваться водо-водяные реакторы при переходе к реакторам со спектральным регулированием, рассказал о реакторе со сверхкритическими параметрами, о замыкании топливного цикла за счет использования быстрых реакторов и пережигания всех актинидов, о проектах в малой атомной энергетике, о возможных аспектах развития термоядерной и водородной энергетики.
Небольшое отступление: в моей молодости, в 1980-х годах, в Курчатовском институте было создано специальное подразделение, где работали установки для получения водорода в опытно-промышленных масштабах. Такая установка называлась «Повод» — то есть «получение водорода». Физики любят такие названия. Например, спектрометр, на котором я работал, назывался «Атос»: «автоматизированный трехосный спектрометр». Другой спектрометр — "Стоик": «спектрометр трехосный на идеальных кристаллах». Или вот «Диск» — «дифрактометр суперпозиционный кольцевой»…
Еще одна примета времени — сегодня наука стала более промышленной. Чего стоит, например, CERN — Большой адронный коллайдер. Когда я занимал пост министра по атомной энергии, этот ускоритель строился, и все наши ведущие предприятия, в том числе оборонного комплекса, участвовали в создании этой суперустановки, потому что в нашей отрасли, особенно в оборонном комплексе, всегда присутствовали высочайшие технологии, которыми не располагали другие государства.
Сейчас во французском центре «Кадараш» реализуется международный проект термоядерного реактора; Россия изготовила для него сверхпроводящие кабели и другие элементы установки с тороидальной камерой для удержания плазмы в магнитном поле. Хорошо, что наши ученые занимают достойное место в реализации крупнейших проектов мировой науки.
Сейчас таких масштабных проектов стало больше. Может быть, мир стал богаче. Когда такой проект возникает, сразу же находятся те, кто говорит: «Не существует материалов, адекватных этим высокотемпературным (или низкотемпературным) параметрам!» На что ученые отвечают: «Очень хорошо, значит, мы их изобретем», — и изобретают. Так было и с Большим адронным коллайдером, так, думаю, будет и с термоядерным демонстрационным реактором.
Все мы мечтали, чтобы кто-нибудь из наших коллег получил Нобелевскую премию. И вот в 1994 году американец Клиффорд Шалл и канадец Бертрам Брокхауз — наши мэтры (я, например, продолжатель той науки, которой занимался Берт Брокхауз, это нейтронная спектрометрия на кристаллическом спектрометре) — получили Нобелевскую премию за развитие метода рассеяния нейтронов применительно к исследованию твердого тела. Для нас это был праздник!
В СССР и России наука всегда была коллективизирована: институты активно сотрудничали. У физиков это сотрудничество всегда очень широкое, потому что некоторые исследуемые образцы синтезируют химики, или металлургические институты, или даже заводы. Например, когда я изучал спектр колебания решетки в благородных металлах (рутении, рении, осмии), на Свердловском заводе по обработке цветных металлов (это аффинажная фабрика, где, в числе прочего, очищают золото) для меня вырастили монокристаллы из благородных металлов. Я дал все подписки от имени института, предоставил гарантийные письма, и через два-три года все эти благородные металлы вернул, согласно актам.
Естественно, все эти люди — химики, металлурги — становились соавторами работ, потому что сделать качественный образец для исследований — это задача, достойная соавторства.
Когда настали трудные времена — 1990-е годы, — всем нам, физикам, было трудно: финансирование уменьшилось. Но мы все же имели гранты и жалели гуманитариев, особенно филологов, историков, потому что понимали: им-то совсем неоткуда добывать деньги.
Сейчас возникло разобщение, многие ушли из науки — кто-то уехал, кто-то занялся бизнесом. Это очень энергичные люди — например, среди моих учеников есть два очень крупных бизнесмена, в прошлом талантливые физики, и я ими горжусь. Приятно, когда молодые люди делают большие состояния, это серьезный труд — создать востребованное направление в бизнесе и получить солидные дивиденды.
В Росатоме этот год объявлен годом науки. В начале апреля произошло важное событие — большая отраслевая научная конференция, на которой присутствовали и представители энергетики, и все ведущие ученые во главе с президентом Академии наук.
Мы договорились, что будем работать сообща. Глава Росатома Алексей Лихачев создал комитет по науке, который должен рассматривать все стратегические направления научных исследований нашего ведомства, рекомендовать оптимальную кооперацию с другими ведомствами, госкорпорациями и предприятиями, исходя из богатого опыта 12 его членов, среди которых три бывших министра (Лев Рябев, Евгений Адамов и я) и четыре академика (Радий Илькаев, Георгий Рыкованов, Валентин Смирнов и опять же я).
Сегодня на заседании Российской академии наук выступили члены этого комитета: Алексей Дуб и Виктор Ильгисонис. То, что представители нашей отраслевой науки выступают с докладами в высшем научном органе, подчеркивает, что Академия находится на хорошем уровне. Виктор Ильгисонис рассмотрел основные тренды и проблемы, стоящие сегодня перед атомной отраслью. Он говорил о том, как будут развиваться и совершенствоваться водо-водяные реакторы при переходе к реакторам со спектральным регулированием, рассказал о реакторе со сверхкритическими параметрами, о замыкании топливного цикла за счет использования быстрых реакторов и пережигания всех актинидов, о проектах в малой атомной энергетике, о возможных аспектах развития термоядерной и водородной энергетики.
Небольшое отступление: в моей молодости, в 1980-х годах, в Курчатовском институте было создано специальное подразделение, где работали установки для получения водорода в опытно-промышленных масштабах. Такая установка называлась «Повод» — то есть «получение водорода». Физики любят такие названия. Например, спектрометр, на котором я работал, назывался «Атос»: «автоматизированный трехосный спектрометр». Другой спектрометр — "Стоик": «спектрометр трехосный на идеальных кристаллах». Или вот «Диск» — «дифрактометр суперпозиционный кольцевой»…
Еще одна примета времени — сегодня наука стала более промышленной. Чего стоит, например, CERN — Большой адронный коллайдер. Когда я занимал пост министра по атомной энергии, этот ускоритель строился, и все наши ведущие предприятия, в том числе оборонного комплекса, участвовали в создании этой суперустановки, потому что в нашей отрасли, особенно в оборонном комплексе, всегда присутствовали высочайшие технологии, которыми не располагали другие государства.
Сейчас во французском центре «Кадараш» реализуется международный проект термоядерного реактора; Россия изготовила для него сверхпроводящие кабели и другие элементы установки с тороидальной камерой для удержания плазмы в магнитном поле. Хорошо, что наши ученые занимают достойное место в реализации крупнейших проектов мировой науки.
Сейчас таких масштабных проектов стало больше. Может быть, мир стал богаче. Когда такой проект возникает, сразу же находятся те, кто говорит: «Не существует материалов, адекватных этим высокотемпературным (или низкотемпературным) параметрам!» На что ученые отвечают: «Очень хорошо, значит, мы их изобретем», — и изобретают. Так было и с Большим адронным коллайдером, так, думаю, будет и с термоядерным демонстрационным реактором.
О современных ученых и о молодежи
Я уверен, что для ученого все определяется талантом и желанием трудиться. Один наставник всегда заставлял нас, молодых, очень много работать и говорил: одной только усидчивостью можно до доктора наук дойти. Если посвящать все свое время науке: читать книги и журналы, много времени проводить в лаборатории — успех придет. Это точно.
Поднять престиж ученого непросто — это длительный процесс. В мое время научная молодежь рассуждала так: «Я готов заниматься тем, что мне очень интересно, за маленькие деньги, и тем, что совсем не нравится, — за большие деньги».
У нас множество источников молодежи: МИФИ, МФТИ, ведущие университеты — Московский, Санкт-Петербургский, Уральский, Томский; политехнические и энергетические институты различных городов. Кстати, отмечу, что ядерная специализация в МВТУ сейчас стремительно прогрессирует.
Конечно, сейчас у молодежи много соблазнов, мешающих ей оставаться в науке, однако в научных центрах по-прежнему много молодых сотрудников. Например, в Курчатовском институте появилось много биологов, поскольку синхротронный источник — это как раз то мягкое рентгеновское излучение, которое нужно для экспериментов по биологии.
Молодежь — это хорошо, потому что именно она — носитель всего самого современного и революционного. Наше поколение уже уходит, но мы довольны, ведь мы оставили после себя хорошие научные школы.
Я завидую сам себе, мне очень повезло, что я в атомной отрасли родился как молодой специалист и познакомился почти со всеми предприятиями нашей отрасли. Это такая красота! Серьезнейшая техника, производственные возможности, ускорители, реакторы, лазеры — и все это расположено в живописных местах: на озерах, в лесах. Я очень люблю Урал и Сибирь. От Южного Урала до Северного, от Екатеринбурга — к Западной Сибири — и на восток…
Молодежь надо увлекать, заманивать, причем не только фильмами или телешоу — необходимо организовывать живое общение. Например, как раньше приобщали людей к культуре? Приезжал в какой-нибудь сибирский город знаменитый артист — я запомнил приезд Вячеслава Тихонова — и все ломились в местный ДК.
Нужно, чтобы вот так же с молодежью встречались великие ученые. Например, президент Российской академии наук Александр Сергеев мог бы рассказать, как он участвовал в создании аппаратуры, с помощью которой впервые в истории были зарегистрированы гравитационные волны, предсказанные Эйнштейном 100 лет тому назад в общей теории относительности. Регистрация гравитационных волн — это же счастье! Я не верил, что при моей жизни будет поставлен такой эксперимент.
Я уверен, что для ученого все определяется талантом и желанием трудиться. Один наставник всегда заставлял нас, молодых, очень много работать и говорил: одной только усидчивостью можно до доктора наук дойти. Если посвящать все свое время науке: читать книги и журналы, много времени проводить в лаборатории — успех придет. Это точно.
Поднять престиж ученого непросто — это длительный процесс. В мое время научная молодежь рассуждала так: «Я готов заниматься тем, что мне очень интересно, за маленькие деньги, и тем, что совсем не нравится, — за большие деньги».
У нас множество источников молодежи: МИФИ, МФТИ, ведущие университеты — Московский, Санкт-Петербургский, Уральский, Томский; политехнические и энергетические институты различных городов. Кстати, отмечу, что ядерная специализация в МВТУ сейчас стремительно прогрессирует.
Конечно, сейчас у молодежи много соблазнов, мешающих ей оставаться в науке, однако в научных центрах по-прежнему много молодых сотрудников. Например, в Курчатовском институте появилось много биологов, поскольку синхротронный источник — это как раз то мягкое рентгеновское излучение, которое нужно для экспериментов по биологии.
Молодежь — это хорошо, потому что именно она — носитель всего самого современного и революционного. Наше поколение уже уходит, но мы довольны, ведь мы оставили после себя хорошие научные школы.
Я завидую сам себе, мне очень повезло, что я в атомной отрасли родился как молодой специалист и познакомился почти со всеми предприятиями нашей отрасли. Это такая красота! Серьезнейшая техника, производственные возможности, ускорители, реакторы, лазеры — и все это расположено в живописных местах: на озерах, в лесах. Я очень люблю Урал и Сибирь. От Южного Урала до Северного, от Екатеринбурга — к Западной Сибири — и на восток…
Молодежь надо увлекать, заманивать, причем не только фильмами или телешоу — необходимо организовывать живое общение. Например, как раньше приобщали людей к культуре? Приезжал в какой-нибудь сибирский город знаменитый артист — я запомнил приезд Вячеслава Тихонова — и все ломились в местный ДК.
Нужно, чтобы вот так же с молодежью встречались великие ученые. Например, президент Российской академии наук Александр Сергеев мог бы рассказать, как он участвовал в создании аппаратуры, с помощью которой впервые в истории были зарегистрированы гравитационные волны, предсказанные Эйнштейном 100 лет тому назад в общей теории относительности. Регистрация гравитационных волн — это же счастье! Я не верил, что при моей жизни будет поставлен такой эксперимент.
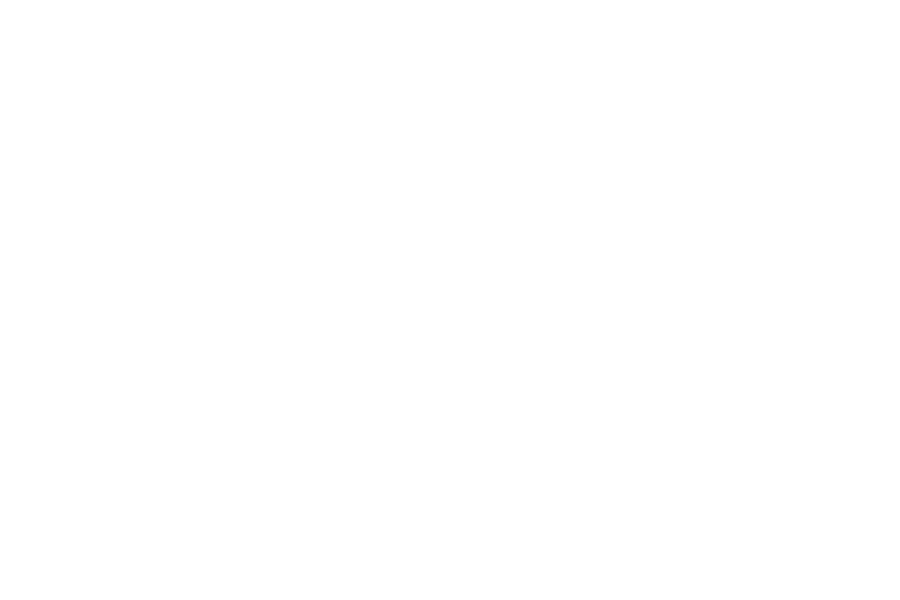
МИФИ, студенты кафедры кибернетики во время экзамена по программированию на алгоритмическом языке «Фортран-4». Москва. 6 января 1977 года
На научных конференциях мы всегда устраивали Дни открытых дверей и приглашали молодежь, студентов. Я знаю, что в школах молодых ученых читают лекции профессора, доктора наук. Некоторым из них 35−40 лет — то есть они говорят с молодежью на одном языке.
Я считаю, нужно привлекать крупных ученых к работе по совместительству в институтах. Все ученые моего поколения преподавали — помимо всего прочего, это был дополнительный способ заработка. В МИФИ, например, когда я был студентом, читали лекции все великие физики того времени: и лауреат Нобелевской премии Николай Басов, и выдающийся физик-теоретик Исаак Померанчук, и академик РАН Олег Крохин. Это очень вдохновляло.
Сейчас слышны разговоры о том, что современные российские ученые мало публикуются в зарубежных научных журналах. Ученые моего поколения, как правило, публиковались в отечественных журналах. Те, кто занимался фундаментальной физикой конденсированных сред, публиковались в «Журнале экспериментальной и теоретической физики», «Физике твердого тела», журнале «Приборы и техника эксперимента», «Физике металлов и металловедении», «Письмах в ЖЭТФ», «Успехах физических наук», «Кристаллографии», «Химии твердого тела» и так далее. Когда наше государство стало более открытым и началось активное международное научное сотрудничество, мы начали работать в зарубежных научных центрах. В это время появились совместные с иностранными коллегами научные работы, которые публиковались, естественно, на английском языке. Из общего числа публикаций у ученого-экспериментатора треть была за рубежом, две трети — в отечественных журналах.
А потом, когда появились Scopus, индекс Хирша, не все наши журналы были наделены достаточно высоким рейтингом (возможно, из политических соображений). Хотя я считаю, что наши журналы ничуть не хуже зарубежных.
Наши ученые в принципе сейчас мало публикуются — это занимает много времени и приносит не так уж много денег. Материальная составляющая должна быть значительной. А пока, к сожалению, занятие физикой не обеспечивает молодому ученому достаточно высокого уровня жизни. Он вынужден меньше времени уделять науке, больше — сторонним подработкам.
Интересно, что в определенный момент — в конце 1990-х годов — в Курчатовском институте наблюдалась такая тенденция: приходят студенты, хотят устроиться на работу. Им говорят: «У нас небольшие зарплаты». А они отвечают: «Эту зарплату я легко на стороне заработаю, а мне хочется посмотреть, что такое фундаментальная наука». Потом эта тенденция закончилась.
Сейчас периодически высказывается такая точка зрения: вся современная отечественная наука существует на советском наследии. Однако я считаю, что сегодня уже можно говорить о создании нового наследия, о постановке глобальных научных задач.
Например, на сегодняшнем общем собрании членов РАН выступали ученые с очень интересными докладами. Первый вице-президент Академии наук Юрий Балега говорил о состоянии астрономии у нас в стране: о телескопах с зеркалами и радиотелескопах, о новых экспериментах и о сотрудничестве с другими государствами.
Бывший директор ленинградского физтеха, академик Андрей Забродский рассказывал о получении электроэнергии за счет преобразования солнечных лучей в электричество. В этой области произошли яркие события, появились новые системы на монокристаллическом кремнии, и коэффициент полезного действия, коэффициент преобразования, вырос почти в 10 раз: от нескольких процентов до 20%. А значит, солнечная энергетика уже становится конкурентоспособной по сравнению с другими видами получения энергии. Это серьезное поле для дальнейших исследований.
Потом выступал докладчик из Института космических исследований. Там изучают распределение воды под корой Марса с помощью рассеяния нейтронов. Ученые на спутнике международной коллаборации, летающем вокруг Марса, размещают установку и смотрят, как распределяются эти марсианские водные озера и каналы, регистрируя отраженные ими нейтроны. Чрезвычайно интересно!
В общем, все это были очень любопытные доклады. Так что потребности современной жизни рождают новые фундаментальные исследования.
Поэтому мне кажется, что сейчас основная задача — обеспечить приток квалифицированной молодежи в науку. А дальше они сделают все, что надо.
Я считаю, нужно привлекать крупных ученых к работе по совместительству в институтах. Все ученые моего поколения преподавали — помимо всего прочего, это был дополнительный способ заработка. В МИФИ, например, когда я был студентом, читали лекции все великие физики того времени: и лауреат Нобелевской премии Николай Басов, и выдающийся физик-теоретик Исаак Померанчук, и академик РАН Олег Крохин. Это очень вдохновляло.
Сейчас слышны разговоры о том, что современные российские ученые мало публикуются в зарубежных научных журналах. Ученые моего поколения, как правило, публиковались в отечественных журналах. Те, кто занимался фундаментальной физикой конденсированных сред, публиковались в «Журнале экспериментальной и теоретической физики», «Физике твердого тела», журнале «Приборы и техника эксперимента», «Физике металлов и металловедении», «Письмах в ЖЭТФ», «Успехах физических наук», «Кристаллографии», «Химии твердого тела» и так далее. Когда наше государство стало более открытым и началось активное международное научное сотрудничество, мы начали работать в зарубежных научных центрах. В это время появились совместные с иностранными коллегами научные работы, которые публиковались, естественно, на английском языке. Из общего числа публикаций у ученого-экспериментатора треть была за рубежом, две трети — в отечественных журналах.
А потом, когда появились Scopus, индекс Хирша, не все наши журналы были наделены достаточно высоким рейтингом (возможно, из политических соображений). Хотя я считаю, что наши журналы ничуть не хуже зарубежных.
Наши ученые в принципе сейчас мало публикуются — это занимает много времени и приносит не так уж много денег. Материальная составляющая должна быть значительной. А пока, к сожалению, занятие физикой не обеспечивает молодому ученому достаточно высокого уровня жизни. Он вынужден меньше времени уделять науке, больше — сторонним подработкам.
Интересно, что в определенный момент — в конце 1990-х годов — в Курчатовском институте наблюдалась такая тенденция: приходят студенты, хотят устроиться на работу. Им говорят: «У нас небольшие зарплаты». А они отвечают: «Эту зарплату я легко на стороне заработаю, а мне хочется посмотреть, что такое фундаментальная наука». Потом эта тенденция закончилась.
Сейчас периодически высказывается такая точка зрения: вся современная отечественная наука существует на советском наследии. Однако я считаю, что сегодня уже можно говорить о создании нового наследия, о постановке глобальных научных задач.
Например, на сегодняшнем общем собрании членов РАН выступали ученые с очень интересными докладами. Первый вице-президент Академии наук Юрий Балега говорил о состоянии астрономии у нас в стране: о телескопах с зеркалами и радиотелескопах, о новых экспериментах и о сотрудничестве с другими государствами.
Бывший директор ленинградского физтеха, академик Андрей Забродский рассказывал о получении электроэнергии за счет преобразования солнечных лучей в электричество. В этой области произошли яркие события, появились новые системы на монокристаллическом кремнии, и коэффициент полезного действия, коэффициент преобразования, вырос почти в 10 раз: от нескольких процентов до 20%. А значит, солнечная энергетика уже становится конкурентоспособной по сравнению с другими видами получения энергии. Это серьезное поле для дальнейших исследований.
Потом выступал докладчик из Института космических исследований. Там изучают распределение воды под корой Марса с помощью рассеяния нейтронов. Ученые на спутнике международной коллаборации, летающем вокруг Марса, размещают установку и смотрят, как распределяются эти марсианские водные озера и каналы, регистрируя отраженные ими нейтроны. Чрезвычайно интересно!
В общем, все это были очень любопытные доклады. Так что потребности современной жизни рождают новые фундаментальные исследования.
Поэтому мне кажется, что сейчас основная задача — обеспечить приток квалифицированной молодежи в науку. А дальше они сделают все, что надо.
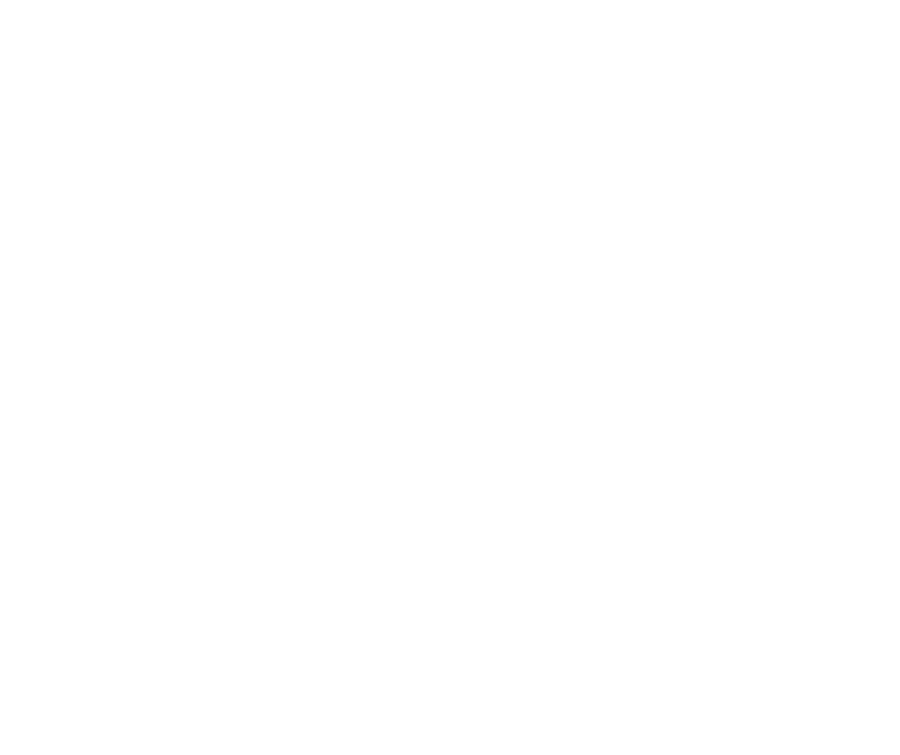
Министр РФ по атомной энергии Александр Румянцев и глава департамента по атомной энергии правительства Индии Анил Какодкар на подписании Меморандума об основных принципах сотрудничества при сооружении АЭС «Куданкулам»
На посту министра
Я был руководителем нашей атомной отрасли с 2001 по 2005 год. Самым сложным решением этого времени считаю решение о достройке третьего блока Калининской АЭС.
Этот блок стоял с еще незавершенным фундаментом, и инвестиций не было никаких, тем более бюджетных. Но народ уже истосковался по строительству атомных блоков, и накопилась критическая масса специалистов, которые не могли больше терпеть простоя.
Многие тогда меня отговаривали, говорили: «Не лезь, сорвемся — и вообще не поднимемся». Я возражал: «Но когда-то же надо начинать!»
И мы приняли решение форсированно достраивать блок. Это было не прожектерство, не «шашки наголо!» — мы с коллегами взяли калькулятор и внимательно подсчитали все деньги, все ресурсы.
В концерн «Росэнергоатом» входило 10 юридических лиц, и капитальные деньги аккумулировались по всем атомным станциям. Только объединив все эти средства, можно было начинать строительство новых блоков. Мы договорились собирать деньги сообща и строить блоки по очереди. Это был эксперимент.
Осложнялось все еще и тем, что за нашу электроэнергию платили только 80−90% потребителей, то есть неплательщиков было много.
И вот мы с Анатолием Чубайсом (на тот момент главой РАО «ЕЭС России») договорились активизировать сбор денег с должников. Определяющую роль сыграл тогдашний член правления РАО «ЕЭС» Михаил Абызов: он буквально жил в самолете, летал по всем объектам и требовал от должников оплатить потребленное электричество. Применялись различные кары, вплоть до отключения, и в результате удалось получить деньги с должников…
При реализации этого проекта мы создали автоматизированную систему управления технологическими процессами — не аналоговую, а цифровую.
Калининский блок мы построили на одном дыхании, за два с половиной года, и пустили в декабре 2004 года.
Помню, в апреле 2002 года, когда все только начиналось, тогдашний вице-премьер Виктор Христенко побывал на нашей площадке и с сомнением сказал: «Посмотрим, как вы с этим справитесь». И вот в декабре 2004-го он приехал уже на пуск станции, посмотрел на меня — и промолчал. Но это молчание было для меня дороже любых похвал, потому что на лице у него было написано все: он не ожидал, что нам это по силам, и был восхищен.
Я был руководителем нашей атомной отрасли с 2001 по 2005 год. Самым сложным решением этого времени считаю решение о достройке третьего блока Калининской АЭС.
Этот блок стоял с еще незавершенным фундаментом, и инвестиций не было никаких, тем более бюджетных. Но народ уже истосковался по строительству атомных блоков, и накопилась критическая масса специалистов, которые не могли больше терпеть простоя.
Многие тогда меня отговаривали, говорили: «Не лезь, сорвемся — и вообще не поднимемся». Я возражал: «Но когда-то же надо начинать!»
И мы приняли решение форсированно достраивать блок. Это было не прожектерство, не «шашки наголо!» — мы с коллегами взяли калькулятор и внимательно подсчитали все деньги, все ресурсы.
В концерн «Росэнергоатом» входило 10 юридических лиц, и капитальные деньги аккумулировались по всем атомным станциям. Только объединив все эти средства, можно было начинать строительство новых блоков. Мы договорились собирать деньги сообща и строить блоки по очереди. Это был эксперимент.
Осложнялось все еще и тем, что за нашу электроэнергию платили только 80−90% потребителей, то есть неплательщиков было много.
И вот мы с Анатолием Чубайсом (на тот момент главой РАО «ЕЭС России») договорились активизировать сбор денег с должников. Определяющую роль сыграл тогдашний член правления РАО «ЕЭС» Михаил Абызов: он буквально жил в самолете, летал по всем объектам и требовал от должников оплатить потребленное электричество. Применялись различные кары, вплоть до отключения, и в результате удалось получить деньги с должников…
При реализации этого проекта мы создали автоматизированную систему управления технологическими процессами — не аналоговую, а цифровую.
Калининский блок мы построили на одном дыхании, за два с половиной года, и пустили в декабре 2004 года.
Помню, в апреле 2002 года, когда все только начиналось, тогдашний вице-премьер Виктор Христенко побывал на нашей площадке и с сомнением сказал: «Посмотрим, как вы с этим справитесь». И вот в декабре 2004-го он приехал уже на пуск станции, посмотрел на меня — и промолчал. Но это молчание было для меня дороже любых похвал, потому что на лице у него было написано все: он не ожидал, что нам это по силам, и был восхищен.
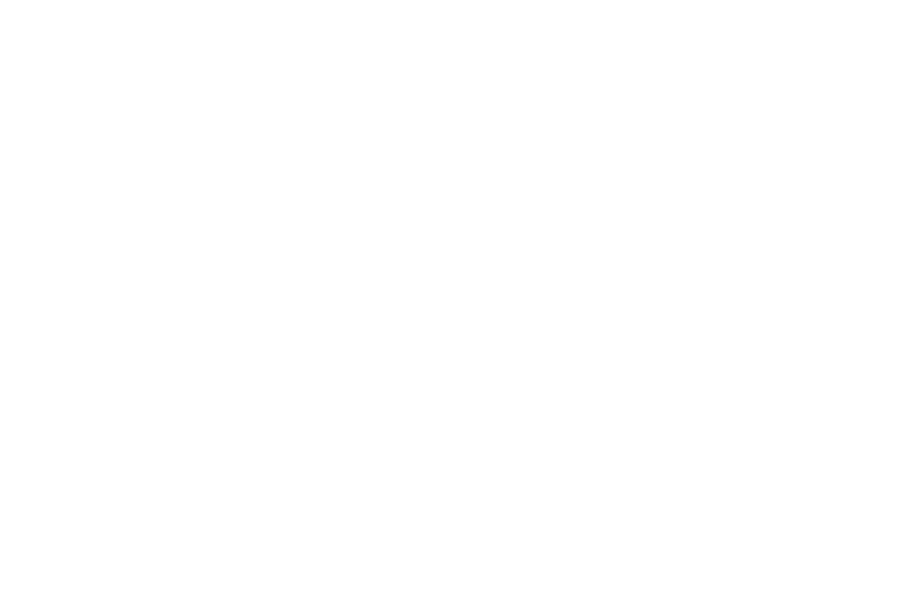
Новый глава Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко и экс-руководитель агентства Александр Румянцев отвечают на вопросы журналистов. Москва. 17 ноября 2005 года
И еще одно запомнившееся событие — подписание с Ираном соглашения о возврате облученного топлива. Переговоры были тяжелейшие, потому что Запад сказал, что не доверяет Ирану. Я спросил: «А если мы подпишем соглашение, согласно которому мы все облученное топливо забираем обратно?» Они говорят: «Если подпишете — посмотрим». Мы его подписали: Иран понял, что это единственный шанс достроить АЭС «Бушер». Открылся четкий путь к достройке, и блок был завершен.
А вообще-то, конечно, каждый день что-то происходило. Я приходил на работу чуть раньше восьми утра, и у меня на столе уже лежала сводка событий в отрасли за последние сутки, по всем предприятиям.
Конечно, бывали радостные минуты: например, пуск новых установок, получение долгожданных научных результатов. Это всегда приятно.
Я смотрю, как наши министры сейчас очень активно ездят по стране и по миру, работают круглосуточно. Я столько не ездил, но спал тоже очень мало: дай бог, если с 12 ночи до 5−6 утра. В самолете всегда спишь, в машине стараешься поспать. Но когда на Урал приезжаешь, там такая красота, озера — как спать? Глаза закрываются — и все равно любуешься.
Активный образ жизни — это когда некогда поесть. А вот если спать некогда — это уже совсем плохо, это значит, что ты перегружен, нужно пересматривать свою жизнь. Сон — важнее, чем еда. Это я понял с возрастом.
Говорят, что с моим приходом на пост министра отрасль стала более открытой. Но я общался с журналистами всегда одинаково: и будучи министром, и работая в фундаментальной науке. Постепенно вокруг меня сформировался журналистский пул. Раз или два в неделю я встречался с корреспондентами самых разных изданий, среди них были и ВВС, и «Радио Свобода», и многие другие.
Я говорил, что необходимо работать с молодежью; так вот, точно так же надо работать и с журналистами: настоящие журналисты — это наша совесть, потому что они рассказывают обо всем, что плохо устроено. Поэтому я к журналистам всегда относился с большим уважением, если они, конечно, профессионалы, а не поденщики.
А вообще-то, конечно, каждый день что-то происходило. Я приходил на работу чуть раньше восьми утра, и у меня на столе уже лежала сводка событий в отрасли за последние сутки, по всем предприятиям.
Конечно, бывали радостные минуты: например, пуск новых установок, получение долгожданных научных результатов. Это всегда приятно.
Я смотрю, как наши министры сейчас очень активно ездят по стране и по миру, работают круглосуточно. Я столько не ездил, но спал тоже очень мало: дай бог, если с 12 ночи до 5−6 утра. В самолете всегда спишь, в машине стараешься поспать. Но когда на Урал приезжаешь, там такая красота, озера — как спать? Глаза закрываются — и все равно любуешься.
Активный образ жизни — это когда некогда поесть. А вот если спать некогда — это уже совсем плохо, это значит, что ты перегружен, нужно пересматривать свою жизнь. Сон — важнее, чем еда. Это я понял с возрастом.
Говорят, что с моим приходом на пост министра отрасль стала более открытой. Но я общался с журналистами всегда одинаково: и будучи министром, и работая в фундаментальной науке. Постепенно вокруг меня сформировался журналистский пул. Раз или два в неделю я встречался с корреспондентами самых разных изданий, среди них были и ВВС, и «Радио Свобода», и многие другие.
Я говорил, что необходимо работать с молодежью; так вот, точно так же надо работать и с журналистами: настоящие журналисты — это наша совесть, потому что они рассказывают обо всем, что плохо устроено. Поэтому я к журналистам всегда относился с большим уважением, если они, конечно, профессионалы, а не поденщики.
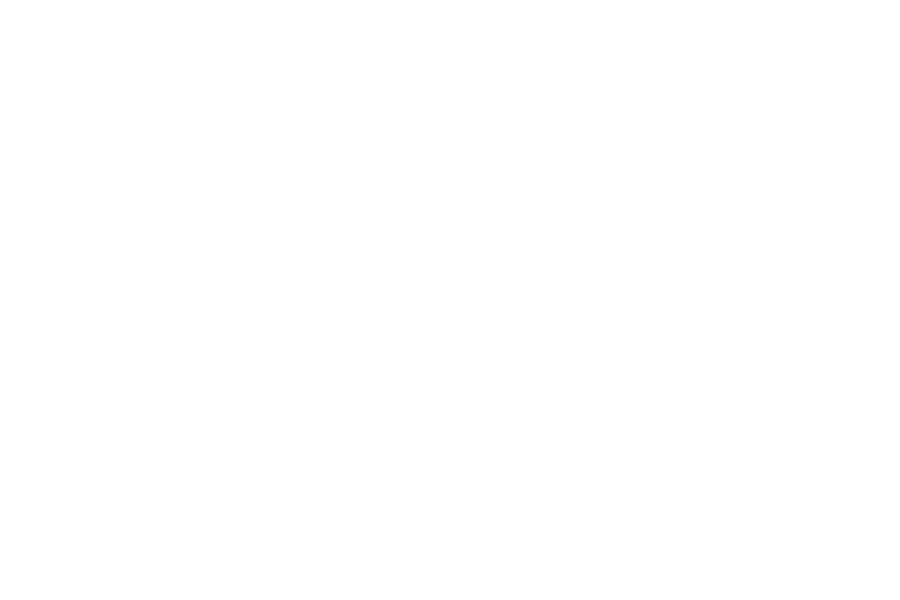
Подписание договора о строительстве АЭС «Ханхикиви». Хельсинки. 25 февраля 2014 года
Три Финляндии
В моей жизни было три Финляндии. Первая Финляндия началась для меня в конце 1980-х годов, когда я занимался фундаментальной наукой в соавторстве с финскими коллегами. Финляндия, между прочим, до сих пор держит мировой рекорд по достижению супернизких температур: там получены температуры в несколько нанокельвинов. Ноль по шкале Кельвина — это минус 273 °C, а нанокельвин — это 10−9 одного градуса Кельвина! Это абсолютный ноль, когда все покоится и только из-за принципа неопределенности существуют так называемые нулевые квантовые колебания. И мне очень жаль, что профессор Олли Лоунасмаа, всю жизнь посвятивший сверхнизким температурам, относительно рано ушел из жизни. Если бы он пожил еще пять-шесть лет, то получил бы Нобелевскую премию за создание супернизких температур, разработку аппаратуры и проведение экспериментов при таких температурах.
Вторая моя Финляндия: когда я был министром по атомной энергии, мы активно сотрудничали с финнами в области безопасности, в области развития построенной СССР станции «Ловииса» и поставляли туда свежее топливо. Кстати, когда я был совсем еще юнцом, сотрудником Курчатовского института, то внес свой нановклад в сооружение этой станции: нас, всех «твердотельцев», попросили исследовать процесс отшелушивания металла, возникший в ходе эксплуатации. Кое-что мы сделали. Сейчас эта станция уже практически выработала свой ресурс, но ее эксплуатация, скорее всего, будет продлена за счет отжига металла корпуса реактора. Это, кстати, тоже ноу-хау советской науки, за это в свое время наши коллеги получили Ленинскую премию: через 40 лет эксплуатации корпус отжигается, металл восстанавливается после радиационных повреждений — и станция готова работать еще десятки лет. Финны сейчас очень активно обсуждают этот вопрос, сотрудничают с нашими физиками.
И третья моя Финляндия — это когда я 11 лет был послом России в Финляндии (хотя обычно дипломаты работают пять-шесть лет). Тогда я обзавелся друзьями из разных государств. Шесть лет я был дуайеном дипломатического корпуса. Дуайен — французское слово, означает «старший дипломат». Это не звание, это значит, что у тебя самый большой срок пребывания в стране.
Вспоминается один случай. Когда произошла фукусимская трагедия, то стало ясно: последуют кардинальные перемены. Но тогда отсутствовала какая бы то ни было официальная информация: проходили дни, из них сложилась неделя, а никаких подробностей не было, хотя спекуляций в СМИ хватало. И вот меня поймал китайский посол и говорит: «Ты физик, ты бывший атомный министр — рассказывай, что произошло?» Я отвечаю, что знаю столько же, сколько и все. Он опять за свое. Тогда я решил: пусть у нас в посольстве соберутся послы — все, кто хочет, — и я выскажу свои соображения на этот счет. И вот на следующий день пришли послы практически всех стран: иранский посол сидел в одной комнате с американским послом, например. И я им рассказал, как при отсутствии принудительного охлаждения активной зоны все происходит с точки зрения физики: как разогревается и оголяется зона, как она плавится, как разрушаются топливные сборки, как идут реакция радиолиза воды и процессы на цирконии, как скапливается гремучая смесь, как она взрывается и сносит крышу здания. «Но тем не менее, — говорю, — хоть это и огромный экономический и экологический ущерб, опасности для населения нет, и радиоактивная вода, попавшая в море, не сильно ему навредит, так как быстро будет достигнут фоновый уровень после размешивания. Да, потребуются колоссальные средства для реновации территории, ликвидации разрушенного блока, но катастрофы мирового масштаба не будет».
В моей жизни было три Финляндии. Первая Финляндия началась для меня в конце 1980-х годов, когда я занимался фундаментальной наукой в соавторстве с финскими коллегами. Финляндия, между прочим, до сих пор держит мировой рекорд по достижению супернизких температур: там получены температуры в несколько нанокельвинов. Ноль по шкале Кельвина — это минус 273 °C, а нанокельвин — это 10−9 одного градуса Кельвина! Это абсолютный ноль, когда все покоится и только из-за принципа неопределенности существуют так называемые нулевые квантовые колебания. И мне очень жаль, что профессор Олли Лоунасмаа, всю жизнь посвятивший сверхнизким температурам, относительно рано ушел из жизни. Если бы он пожил еще пять-шесть лет, то получил бы Нобелевскую премию за создание супернизких температур, разработку аппаратуры и проведение экспериментов при таких температурах.
Вторая моя Финляндия: когда я был министром по атомной энергии, мы активно сотрудничали с финнами в области безопасности, в области развития построенной СССР станции «Ловииса» и поставляли туда свежее топливо. Кстати, когда я был совсем еще юнцом, сотрудником Курчатовского института, то внес свой нановклад в сооружение этой станции: нас, всех «твердотельцев», попросили исследовать процесс отшелушивания металла, возникший в ходе эксплуатации. Кое-что мы сделали. Сейчас эта станция уже практически выработала свой ресурс, но ее эксплуатация, скорее всего, будет продлена за счет отжига металла корпуса реактора. Это, кстати, тоже ноу-хау советской науки, за это в свое время наши коллеги получили Ленинскую премию: через 40 лет эксплуатации корпус отжигается, металл восстанавливается после радиационных повреждений — и станция готова работать еще десятки лет. Финны сейчас очень активно обсуждают этот вопрос, сотрудничают с нашими физиками.
И третья моя Финляндия — это когда я 11 лет был послом России в Финляндии (хотя обычно дипломаты работают пять-шесть лет). Тогда я обзавелся друзьями из разных государств. Шесть лет я был дуайеном дипломатического корпуса. Дуайен — французское слово, означает «старший дипломат». Это не звание, это значит, что у тебя самый большой срок пребывания в стране.
Вспоминается один случай. Когда произошла фукусимская трагедия, то стало ясно: последуют кардинальные перемены. Но тогда отсутствовала какая бы то ни было официальная информация: проходили дни, из них сложилась неделя, а никаких подробностей не было, хотя спекуляций в СМИ хватало. И вот меня поймал китайский посол и говорит: «Ты физик, ты бывший атомный министр — рассказывай, что произошло?» Я отвечаю, что знаю столько же, сколько и все. Он опять за свое. Тогда я решил: пусть у нас в посольстве соберутся послы — все, кто хочет, — и я выскажу свои соображения на этот счет. И вот на следующий день пришли послы практически всех стран: иранский посол сидел в одной комнате с американским послом, например. И я им рассказал, как при отсутствии принудительного охлаждения активной зоны все происходит с точки зрения физики: как разогревается и оголяется зона, как она плавится, как разрушаются топливные сборки, как идут реакция радиолиза воды и процессы на цирконии, как скапливается гремучая смесь, как она взрывается и сносит крышу здания. «Но тем не менее, — говорю, — хоть это и огромный экономический и экологический ущерб, опасности для населения нет, и радиоактивная вода, попавшая в море, не сильно ему навредит, так как быстро будет достигнут фоновый уровень после размешивания. Да, потребуются колоссальные средства для реновации территории, ликвидации разрушенного блока, но катастрофы мирового масштаба не будет».
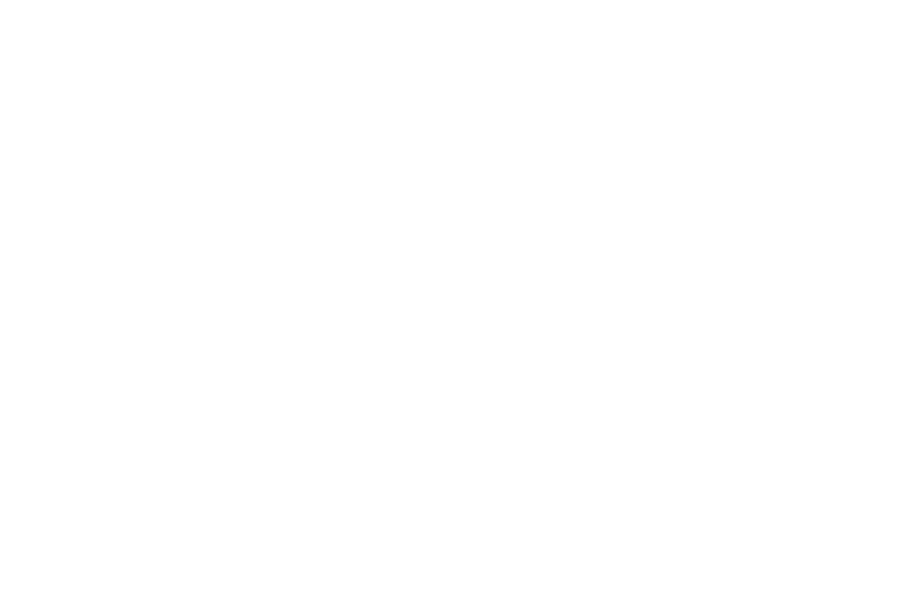
Конечно, все задавали вопросы: «Почему это произошло? Из-за плохого реактора?»
Я говорю: «Смотрите, что случилось: огромное цунами и девятибалльное землетрясение — одновременно. Ни один реактор не выдержал бы такого. Этому реактору 40 лет, но он хороший. Одно землетрясение или одно цунами он выдержал бы, но два события одновременно никто себе не мог представить». И когда потом все, в основном, подтвердилось, оказалось, что все происходило так, как я описывал, послы меня сильно зауважали. Посол Японии посетил меня лично и сказал: «Спасибо, Александр, за правду!»
В общем, жили мы дружно в нашем дипломатическом корпусе. Я внедрял такую концепцию: у наших государств могут быть какие угодно отношения, но мы-то здесь делаем общее дело: в стране пребывания налаживаем сотрудничество с этой страной, с Финляндией, — и значит, мы должны общаться по-человечески, культурно.
Я вспоминаю свою жизнь — она пролетела как одно мгновение: студенчество, наука, Курчатовский институт, Росатом, Финляндия — все произошло очень быстро.
Только перешагнув 70-летний рубеж, я понял, каким даром меня одарил Господь: я умею радоваться чужим успехам. Наверное, все хорошее в моей жизни происходило благодаря тому, что я всегда искренне радовался за своих коллег, и они это чувствовали.
Я говорю: «Смотрите, что случилось: огромное цунами и девятибалльное землетрясение — одновременно. Ни один реактор не выдержал бы такого. Этому реактору 40 лет, но он хороший. Одно землетрясение или одно цунами он выдержал бы, но два события одновременно никто себе не мог представить». И когда потом все, в основном, подтвердилось, оказалось, что все происходило так, как я описывал, послы меня сильно зауважали. Посол Японии посетил меня лично и сказал: «Спасибо, Александр, за правду!»
В общем, жили мы дружно в нашем дипломатическом корпусе. Я внедрял такую концепцию: у наших государств могут быть какие угодно отношения, но мы-то здесь делаем общее дело: в стране пребывания налаживаем сотрудничество с этой страной, с Финляндией, — и значит, мы должны общаться по-человечески, культурно.
Я вспоминаю свою жизнь — она пролетела как одно мгновение: студенчество, наука, Курчатовский институт, Росатом, Финляндия — все произошло очень быстро.
Только перешагнув 70-летний рубеж, я понял, каким даром меня одарил Господь: я умею радоваться чужим успехам. Наверное, все хорошее в моей жизни происходило благодаря тому, что я всегда искренне радовался за своих коллег, и они это чувствовали.
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ #9_2018