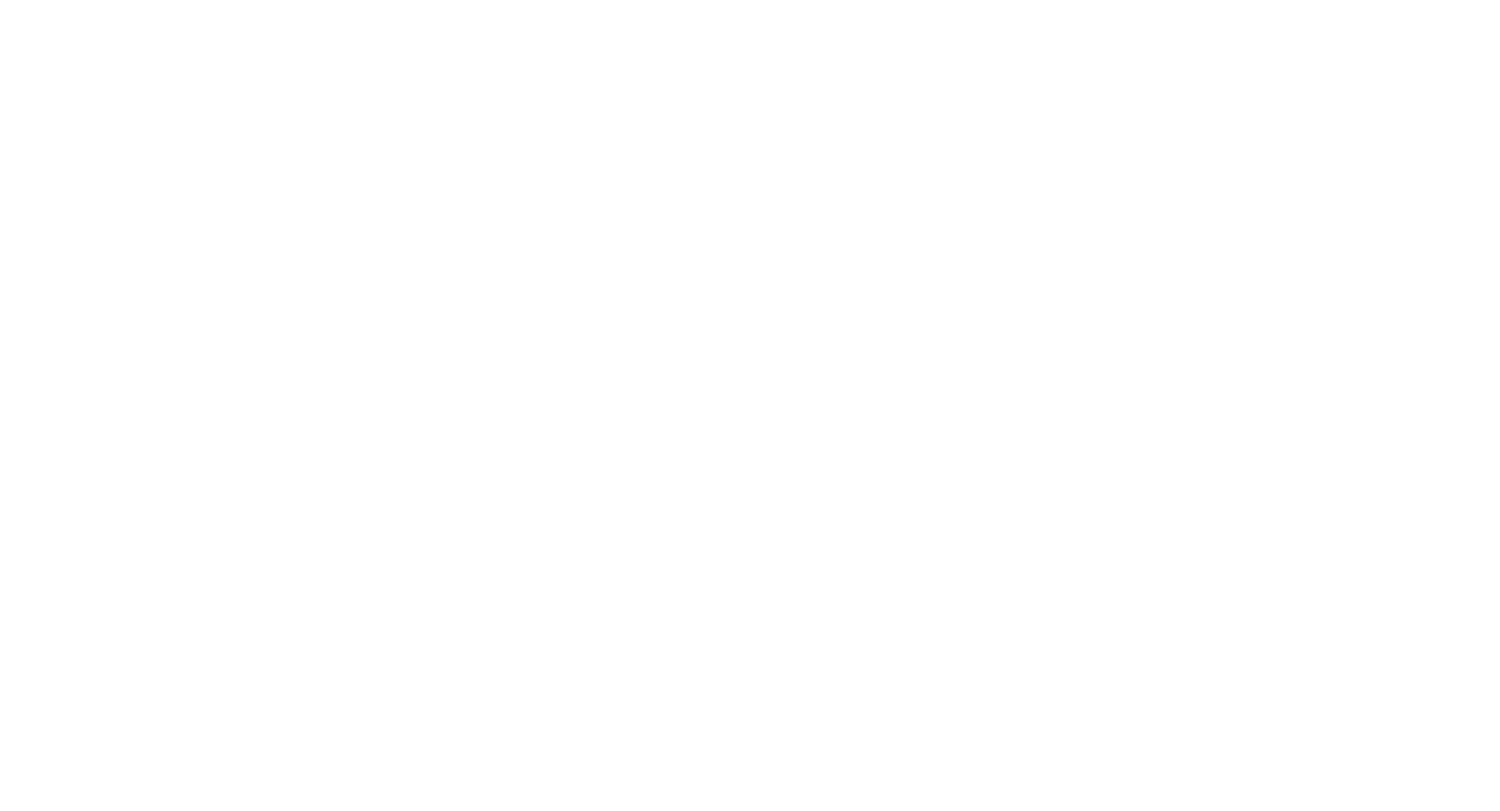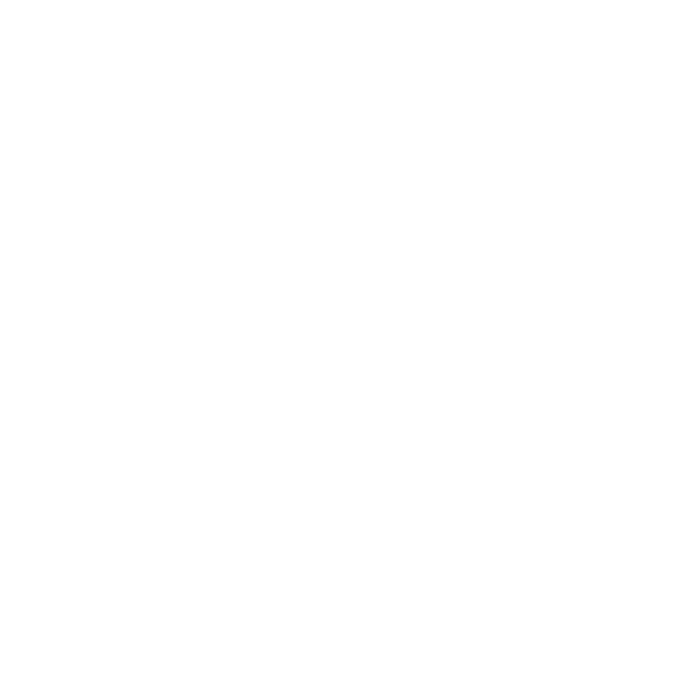
ВЗГЛЯД / #8_2021
Наука и интонации
Фото: Росатом, Google.com, Flickr.com, Sirius-ft.ru
Ретроспективный анализ схожих исторических эпох практически всегда приводит к точным и рациональным решениям. Заместитель директора ЧУ «Наука и инновации» — директор ЦАИР Павел Птицын размышляет об особой роли национальной науки в периоды глобальных кризисов.
Российская и немецкая наука к началу Первой мировой войны обладала целой плеядой ученых мирового уровня. Перечислять их вряд ли имеет смысл. Важнее другое: взаимодействие двух национальных школ и научных форматов можно охарактеризовать как многовековое и теснейшее, пронизанное сетью сложных социальных, образовательных и личностных связей. Достаточно привести один пример: вскоре после начала военных действий из Российской академии наук были исключены 52 почетных члена и члена-корреспондента — подданных Германии и Австро-Венгрии.
К началу XX века в России было девять университетов (в 1912 году — уже 11) и около 60 специализированных вузов, где большинство профессоров и преподавателей вели интенсивную научную работу. Более того, по числу некоммерческих научных обществ любителей естествознания различного профиля Российская империя занимала первое место в мире. Во главе императорской Академии наук стоял представитель царствующей династии, что помогало материально обеспечивать популяризацию науки. Ожидалось ее дальнейшее экспоненциальное развитие. Но, к величайшему сожалению, управляемое воздействие на университетскую среду того времени умело переключало умы талантливых молодых ученых, отвлекая их от научных поисков и поощряя противостояние с властью и уход в революционное движение.
К началу XX века в России было девять университетов (в 1912 году — уже 11) и около 60 специализированных вузов, где большинство профессоров и преподавателей вели интенсивную научную работу. Более того, по числу некоммерческих научных обществ любителей естествознания различного профиля Российская империя занимала первое место в мире. Во главе императорской Академии наук стоял представитель царствующей династии, что помогало материально обеспечивать популяризацию науки. Ожидалось ее дальнейшее экспоненциальное развитие. Но, к величайшему сожалению, управляемое воздействие на университетскую среду того времени умело переключало умы талантливых молодых ученых, отвлекая их от научных поисков и поощряя противостояние с властью и уход в революционное движение.
А дальше была война…
Интересна картина первых ее недель: спешащие записаться в армию добровольцами, готовые на подвиги молодые люди, ученые, уезжавшие в Европу из Петербурга и возвращавшиеся в Петроград; призывы СМИ к войне до победного конца, к обновлению, очищению, единению; многочисленные манифесты — и скупые строки из письма В. И. Вернадского: «Многие не сознают серьезности переживаемого момента…»
Начавшаяся война привела к формированию национально-государственных моделей организации науки и резкому усилению госучастия в определении приоритетов научной политики во многих странах. Были созданы специальные органы для координации научных исследований: Национальный исследовательский совет в США, Комитет по научным и промышленным исследованиям при Тайном совете Великобритании, Фонд кайзера для военно-технических наук в Германии. В России тогда появились и сразу же вошли в широкий обиход такие термины, как «мобилизация науки» и «суверенная наука», очень созвучные сегодняшнему «технологическому суверенитету», однако координационный орган создан не был.
В научной среде началась так называемая война умов: ученые мужи публиковали в печати многостраничные взаимные обвинения в развязывании военных действий, спорили о роли науки в формирующемся мире, отказывались от публикаций на тех или иных языках, вымарывали цитаты… Примечательно, что дискуссии вели в основном «технари», в то время как социологи, философы, психологи и юристы массово переезжали в спокойные нейтральные страны. Казалось бы, на замену немецким ученым — традиционно главным партнерам России — должны были прийти коллеги из Англии, Франции, Японии и США. Однако ничего подобного не произошло.
Нельзя не отметить в этой связи весьма противоречивую фигуру Фрица Хабера — передового немецкого патриота, хотя и не немца по происхождению, который по-своему понял смысл «союза науки и капитала» и, по сути, обеспечил применение биотехнологий, запатентованных для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, для создания оружия массового поражения. Холодным апрелем 1915 года в местечке Ипр тысячи французов погибли, отравленные газами…
Кстати, именно химия оказалась единственной признанной областью, в которой российская наука времен Первой мировой достигла определенных успехов (по мнению Э. Колчинского, С. Зенкевича и А. Ермолаева — авторов книги «Мобилизация и реорганизация российской науки и образования в годы Первой мировой войны», изданной в 2018 году). Причина банальна — во главе химотделения РФХО стояли кадровые офицеры и генералы, имевшие прямую связь со Ставкой; военная дисциплина и планирование обеспечивали результат.
Любопытно, что в те годы начался процесс, который сегодня назвали бы импортозамещением: в России стали производить аспирин, новокаин, атропин, йод. Был налажен выпуск первых отечественных рентгеновских аппаратов. Еще одна очевидная параллель: уже в октябре 1914 года формируется «Полярная комиссия», состоящая из ученых — геологов, океанологов, геофизиков, климатологов, биологов. Реконструируется Архангельский порт, срочно возводится незамерзающий Мурманский. Северный Ледовитый океан становится стратегически важной зоной.
Однако всего этого оказалось недостаточно. По итогам боевых действий авторы вышеупомянутой книги констатируют перманентный кризис как российской, так и немецкой науки длиной в десятилетие, оперируя следующими показательными фактами:
Завершая краткий исторический экскурс и констатируя намеренный успешный развал национального научного сообщества, не могу не добавить толику позитива. Пытливая научная мысль все же пробивала себе дорогу, как говорится, «не благодаря, а вопреки».
В мемуарах Вернера Карла Гейзенберга, одного из создателей теории квантовой механики, работавшего в Геттингенском университете, есть красочные и забавные эпизоды. Начало теории было положено на летнем фестивале Нильса Бора в 1922 году; в течение осени проходили домашние семинары, в которых «приняло участие едва ли больше восьми физиков и математиков». Однако уровень задач так увлек группу молодых ученых, что уже к 1925 году они «не могли говорить ни о чем другом, кроме теории квантов, до того были захвачены ее успехами и внутренними противоречиями». «Мы брали тогда скромные обеды в одном частном заведении напротив аудиторного корпуса. Однажды, к моему изумлению, хозяйка объявила мне, что мы, физики, к сожалению, не сможем впредь обедать у нее, потому что вечные профессиональные глупости за нашим столом до того надоели другим людям, что она рискует потерять всех клиентов». А ведь в этих беседах зарождался атомный век!
А вот что мы читаем в книге «Мобилизация и реорганизация российской науки и образования в годы Первой мировой войны»: «Если промышленники, финансисты и политики заботились сами о себе, а рабочие отстаивали свои интересы в стачечной борьбе, то преподаватели вузов и сотрудники научных учреждений были беззащитны в противоречивой культуре и социально-политической жизни послевоенного периода».
Советская наука начнет свой путь в 1920‑х годах с создания при Академии наук сети многочисленных специализированных НИИ, в парадигме «обмена предоставляемых правительством финансово-материальных и людских ресурсов на централизованное планирование и жесткое административное подчинение». И результаты такого подхода не заставят себя ждать.
Интересна картина первых ее недель: спешащие записаться в армию добровольцами, готовые на подвиги молодые люди, ученые, уезжавшие в Европу из Петербурга и возвращавшиеся в Петроград; призывы СМИ к войне до победного конца, к обновлению, очищению, единению; многочисленные манифесты — и скупые строки из письма В. И. Вернадского: «Многие не сознают серьезности переживаемого момента…»
Начавшаяся война привела к формированию национально-государственных моделей организации науки и резкому усилению госучастия в определении приоритетов научной политики во многих странах. Были созданы специальные органы для координации научных исследований: Национальный исследовательский совет в США, Комитет по научным и промышленным исследованиям при Тайном совете Великобритании, Фонд кайзера для военно-технических наук в Германии. В России тогда появились и сразу же вошли в широкий обиход такие термины, как «мобилизация науки» и «суверенная наука», очень созвучные сегодняшнему «технологическому суверенитету», однако координационный орган создан не был.
В научной среде началась так называемая война умов: ученые мужи публиковали в печати многостраничные взаимные обвинения в развязывании военных действий, спорили о роли науки в формирующемся мире, отказывались от публикаций на тех или иных языках, вымарывали цитаты… Примечательно, что дискуссии вели в основном «технари», в то время как социологи, философы, психологи и юристы массово переезжали в спокойные нейтральные страны. Казалось бы, на замену немецким ученым — традиционно главным партнерам России — должны были прийти коллеги из Англии, Франции, Японии и США. Однако ничего подобного не произошло.
Нельзя не отметить в этой связи весьма противоречивую фигуру Фрица Хабера — передового немецкого патриота, хотя и не немца по происхождению, который по-своему понял смысл «союза науки и капитала» и, по сути, обеспечил применение биотехнологий, запатентованных для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, для создания оружия массового поражения. Холодным апрелем 1915 года в местечке Ипр тысячи французов погибли, отравленные газами…
Кстати, именно химия оказалась единственной признанной областью, в которой российская наука времен Первой мировой достигла определенных успехов (по мнению Э. Колчинского, С. Зенкевича и А. Ермолаева — авторов книги «Мобилизация и реорганизация российской науки и образования в годы Первой мировой войны», изданной в 2018 году). Причина банальна — во главе химотделения РФХО стояли кадровые офицеры и генералы, имевшие прямую связь со Ставкой; военная дисциплина и планирование обеспечивали результат.
Любопытно, что в те годы начался процесс, который сегодня назвали бы импортозамещением: в России стали производить аспирин, новокаин, атропин, йод. Был налажен выпуск первых отечественных рентгеновских аппаратов. Еще одна очевидная параллель: уже в октябре 1914 года формируется «Полярная комиссия», состоящая из ученых — геологов, океанологов, геофизиков, климатологов, биологов. Реконструируется Архангельский порт, срочно возводится незамерзающий Мурманский. Северный Ледовитый океан становится стратегически важной зоной.
Однако всего этого оказалось недостаточно. По итогам боевых действий авторы вышеупомянутой книги констатируют перманентный кризис как российской, так и немецкой науки длиной в десятилетие, оперируя следующими показательными фактами:
- не менее половины ученых и преподавателей высшей школы осталось вне пределов СССР в результате приобретения независимости бывшими территориями Российской империи, а также последующих эмиграционных процессов;
- к 1923 году в Германии были закрыты почти все научные учреждения, на фронтах погибло 80% студенчества;
- международная изоляция и обструкция российских и немецких ученых продолжались до конца 1920‑х годов (до вступления Германии в Лигу Наций);
- в результате была потеряна целая плеяда российских и немецких ученых и, следовательно, возможность развития научных школ.
Завершая краткий исторический экскурс и констатируя намеренный успешный развал национального научного сообщества, не могу не добавить толику позитива. Пытливая научная мысль все же пробивала себе дорогу, как говорится, «не благодаря, а вопреки».
В мемуарах Вернера Карла Гейзенберга, одного из создателей теории квантовой механики, работавшего в Геттингенском университете, есть красочные и забавные эпизоды. Начало теории было положено на летнем фестивале Нильса Бора в 1922 году; в течение осени проходили домашние семинары, в которых «приняло участие едва ли больше восьми физиков и математиков». Однако уровень задач так увлек группу молодых ученых, что уже к 1925 году они «не могли говорить ни о чем другом, кроме теории квантов, до того были захвачены ее успехами и внутренними противоречиями». «Мы брали тогда скромные обеды в одном частном заведении напротив аудиторного корпуса. Однажды, к моему изумлению, хозяйка объявила мне, что мы, физики, к сожалению, не сможем впредь обедать у нее, потому что вечные профессиональные глупости за нашим столом до того надоели другим людям, что она рискует потерять всех клиентов». А ведь в этих беседах зарождался атомный век!
А вот что мы читаем в книге «Мобилизация и реорганизация российской науки и образования в годы Первой мировой войны»: «Если промышленники, финансисты и политики заботились сами о себе, а рабочие отстаивали свои интересы в стачечной борьбе, то преподаватели вузов и сотрудники научных учреждений были беззащитны в противоречивой культуре и социально-политической жизни послевоенного периода».
Советская наука начнет свой путь в 1920‑х годах с создания при Академии наук сети многочисленных специализированных НИИ, в парадигме «обмена предоставляемых правительством финансово-материальных и людских ресурсов на централизованное планирование и жесткое административное подчинение». И результаты такого подхода не заставят себя ждать.

«Русский витязь» — первый в мире четырехмоторный самолет, созданный изобретателем-авиаконструктором Игорем Сикорским в 1913 году
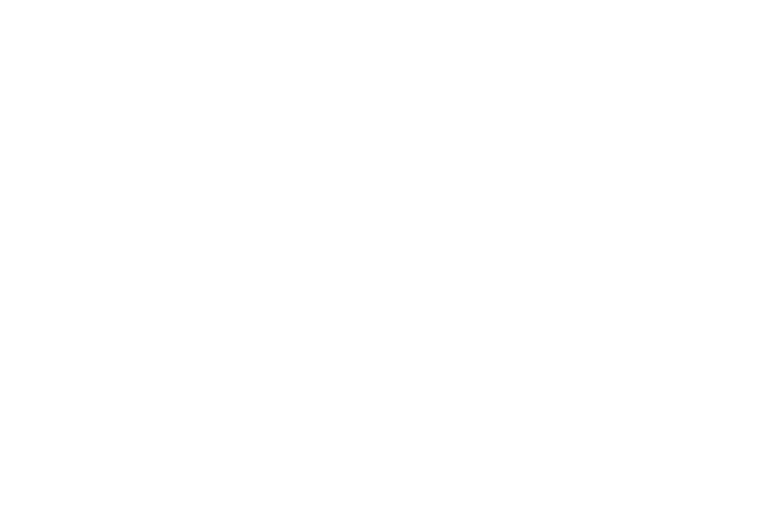
Архангельский порт, 1915 год
Вторая мировая: научный прорыв
Этот исторический период полон примеров ответственности и четкости. Поэтому говорить о нем проще и приятнее. Хотя колоссальное количество жертв заставляет вспоминать те героические годы «со слезами на глазах».
Уже 23 июня 1941 года Президиум АН СССР принимает решение о направлении всей энергии научных работников на укрепление военной мощи СССР. В июле 1941 года начинается эвакуация Академии наук из Москвы в Казань и Свердловск. В связи с перемещением на восток промышленных предприятий проводились работы, направленные на расширение ресурсной базы и освоение стратегического сырья. В сентябре 1941 года начинают работать комиссии по мобилизации для обороны страны ресурсов Урала (Свердловск), Среднего Поволжья и Прикамья (Казань). Базовый метод организации работ под руководством комиссий был таким: бригада специалистов, составленная из сотрудников институтов Академии и возглавляемая академиками и членами-корреспондентами, по мере необходимости выезжала на места для обследования и консультаций с работниками производства; решения принимались безотлагательно. Результаты работ немедленно передавались руководящим и местным хозяйственникам, органам и предприятиям.
У второй воюющей стороны тоже были надежды на научную поддержку своей экспансии, причем поиск шел широким спектром — от оккультных тайн «Анэнербе» до вполне практичных решений в области ракетостроения и атома. И за научное наследие Германии среди союзников вскоре развернулись сражения, пусть и невидимые. И за личности, и за чертежи, и за делящийся материал (достаточно вспомнить операцию «Скрепка» или детективную историю с вывозом американцами урановой руды из Саксонии и Тюрингии, входивших по документам в советскую зону оккупации).
Но вернемся к советской науке военного времени. Около 80 работ, выполненных институтами технического отделения РАН, были в кратчайшие сроки внедрены в практику. Многие из них уже на первой стадии внедрения дали производственный и экономический эффект (новый метод литья крупных фасонных деталей, непрерывное рафинирование цинка ректификацией и др.). Но главным положительным итогом стали не технологии, а тот факт, что национальная наука сохранилась и принесла незаменимые плоды в самое нужное — послевоенное время.
В многотомном труде «Атомный проект СССР» (Атомный проект СССР: Документы и материалы: В 3 т. / Под общ. ред. Л. Д. Рябева. — М.; Саров, 1998−2009) практически нет комментариев. Они не нужны — документы говорят сами за себя. Достаточно взглянуть на состав Технического совета при Специальном комитете, определявшего единственно верные шаги по выбору технологий. Ведь именно они обеспечили качество решений!
Этот исторический период полон примеров ответственности и четкости. Поэтому говорить о нем проще и приятнее. Хотя колоссальное количество жертв заставляет вспоминать те героические годы «со слезами на глазах».
Уже 23 июня 1941 года Президиум АН СССР принимает решение о направлении всей энергии научных работников на укрепление военной мощи СССР. В июле 1941 года начинается эвакуация Академии наук из Москвы в Казань и Свердловск. В связи с перемещением на восток промышленных предприятий проводились работы, направленные на расширение ресурсной базы и освоение стратегического сырья. В сентябре 1941 года начинают работать комиссии по мобилизации для обороны страны ресурсов Урала (Свердловск), Среднего Поволжья и Прикамья (Казань). Базовый метод организации работ под руководством комиссий был таким: бригада специалистов, составленная из сотрудников институтов Академии и возглавляемая академиками и членами-корреспондентами, по мере необходимости выезжала на места для обследования и консультаций с работниками производства; решения принимались безотлагательно. Результаты работ немедленно передавались руководящим и местным хозяйственникам, органам и предприятиям.
У второй воюющей стороны тоже были надежды на научную поддержку своей экспансии, причем поиск шел широким спектром — от оккультных тайн «Анэнербе» до вполне практичных решений в области ракетостроения и атома. И за научное наследие Германии среди союзников вскоре развернулись сражения, пусть и невидимые. И за личности, и за чертежи, и за делящийся материал (достаточно вспомнить операцию «Скрепка» или детективную историю с вывозом американцами урановой руды из Саксонии и Тюрингии, входивших по документам в советскую зону оккупации).
Но вернемся к советской науке военного времени. Около 80 работ, выполненных институтами технического отделения РАН, были в кратчайшие сроки внедрены в практику. Многие из них уже на первой стадии внедрения дали производственный и экономический эффект (новый метод литья крупных фасонных деталей, непрерывное рафинирование цинка ректификацией и др.). Но главным положительным итогом стали не технологии, а тот факт, что национальная наука сохранилась и принесла незаменимые плоды в самое нужное — послевоенное время.
В многотомном труде «Атомный проект СССР» (Атомный проект СССР: Документы и материалы: В 3 т. / Под общ. ред. Л. Д. Рябева. — М.; Саров, 1998−2009) практически нет комментариев. Они не нужны — документы говорят сами за себя. Достаточно взглянуть на состав Технического совета при Специальном комитете, определявшего единственно верные шаги по выбору технологий. Ведь именно они обеспечили качество решений!
Технический совет при Специальном комитете
Для анализа научных и технических вопросов, возникавших при работе Специального комитета над атомным проектом, а также для проработки проектов технологических сооружений необходимо было привлечь научных работников. Распоряжением Государственного комитета обороны от 20 августа 1945 года № ГКО‑9887сс/ов «О специальном комитете [по использованию атомной энергии] при ГКО» был определен следующий состав Технического совета при Специальном комитете.
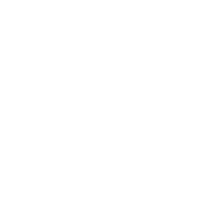
Б. Л. Ванников (председатель), нарком боеприпасов, генералполковник инженернотехнической службы
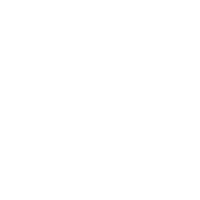
А. И. Алиханов (ученый секретарь), директор ИТЭФ, академик
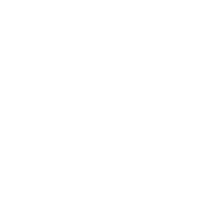
И. Н. Вознесенский, член-корреспондент АН СССР
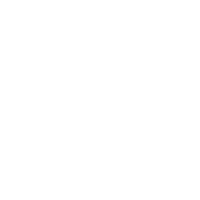
А. П. Завенягин, заместитель наркома внутренних дел, курировал работу спецконтингента
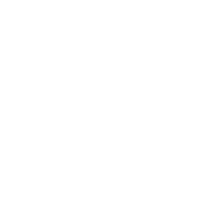
А. Ф. Иоффе, директор Ленинградского ФТИ, академик

П. Л. Капица, директор ИФП
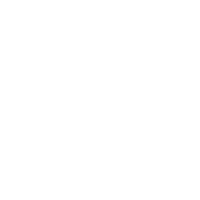
И. К. Кикоин, сотрудник Лаборатории № 2, член-корреспондент АН СССР
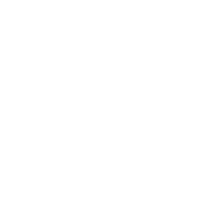
И. В. Курчатов, начальник Лаборатории № 2 АН СССР, академик

В. А. Махнёв, заместитель члена ГКО Л. П. Берии, начальник Секретариата

Ю. Б. Харитон, профессор, доктор физико-математических наук
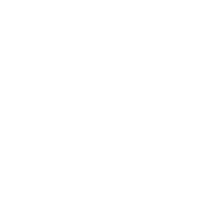
В. Г. Хлопин, руководитель Радиевого института, академик, председатель Комитета по урановой проблеме при Президиуме АН СССР с 1940 года
Или взгляните на документы, описывающие распределение ответственных лиц с конкретизацией по срокам и ресурсам. Сегодня мне особенно примечательным кажется следующий факт: на штабных заседаниях еженедельно заслушивались все возможные альтернативы с коллегиальным, а не кулуарным обсуждением и выбирались не самые эффективные, а с кратчайшим сроком практической реализации. Именно на них выделялись основные ресурсы.
Протокол № 2 заседания Технического совета Специального комитета при Совнаркоме СССР 10 сентября 1945 года
Уже тогда, в конце 1940‑х, на заседаниях ТС рассматривалась и центрифужная технология обогащения урана (доклад Ф. Ланге, ноябрь 1945 года), и использование ядерной энергии легких элементов (доклад группы Зельдовича — Харитона, декабрь 1945 года), и реактор-бридер (материал от июня 1948 года).
Успех августа 1949‑го в Семипалатинске не привел к почиванию на лаврах, формировавшаяся полномасштабная отрасль сохранила стартовые наработки.
Успех августа 1949‑го в Семипалатинске не привел к почиванию на лаврах, формировавшаяся полномасштабная отрасль сохранила стартовые наработки.
И выводы…
Резюмирую: без четкого целеполагания (пресловутое импортозамещение, согласитесь, высокая, но не рекордная планка для русского естествоиспытателя), без справедливой персонализации прав/ответственности (желательно с метриками меритократии), без ключевой роли «человека знающего» сегодня будет весьма сложно, если вообще возможно, повторить героические, не побоюсь этого эпитета, достижения советской послевоенной науки.
На генетическом уровне что-то, возможно, осталось. Но сейчас этот раздробленный за последние десятилетия генофонд требует внимания и помощи. И речь не столько о финансовой поддержке или поставках уникального научного оборудования, сколько о желании и способности мыслить и творить на передовом научном уровне. Тем более что именно эти пытливость и смекалистость были до недавнего времени нашими отличительными национальными чертами и при правильном, бережном отношении могли бы способствовать возврату экономического и военного могущества державы.
Резюмирую: без четкого целеполагания (пресловутое импортозамещение, согласитесь, высокая, но не рекордная планка для русского естествоиспытателя), без справедливой персонализации прав/ответственности (желательно с метриками меритократии), без ключевой роли «человека знающего» сегодня будет весьма сложно, если вообще возможно, повторить героические, не побоюсь этого эпитета, достижения советской послевоенной науки.
На генетическом уровне что-то, возможно, осталось. Но сейчас этот раздробленный за последние десятилетия генофонд требует внимания и помощи. И речь не столько о финансовой поддержке или поставках уникального научного оборудования, сколько о желании и способности мыслить и творить на передовом научном уровне. Тем более что именно эти пытливость и смекалистость были до недавнего времени нашими отличительными национальными чертами и при правильном, бережном отношении могли бы способствовать возврату экономического и военного могущества державы.
Первые приметы осознания этого факта руководством государства видны уже сейчас — достаточно вспомнить вдохновляющие примеры создания селекционных по своей сути образовательных учреждений: «Сириуса» в Сочи и «Национального центра физики и математики» в Сарове. В конце апреля 2022 года вышел специальный Указ Президента Российской Федерации о грядущем Десятилетии науки.
Но способно ли все это переломить последствия длительного воздействия на российское общество с целью замены этнического соборного «культурного кода» с традиционными общественно-полезными критериями успеха на имитацию, протекцию, конкурентное мышление и материально ориентированный гедонизм — покажет лишь время. Будут профессионалы — будет результат. А сейчас речь идет даже не о возвращении, а скорее, о новом восхождении, и начинать надо не с интегралов и дифференциальных уравнений второго порядка, а со счетных палочек в начальной школе. Искренне надеюсь, что слова мои звучат как вызов, а не как реквием.
Но способно ли все это переломить последствия длительного воздействия на российское общество с целью замены этнического соборного «культурного кода» с традиционными общественно-полезными критериями успеха на имитацию, протекцию, конкурентное мышление и материально ориентированный гедонизм — покажет лишь время. Будут профессионалы — будет результат. А сейчас речь идет даже не о возвращении, а скорее, о новом восхождении, и начинать надо не с интегралов и дифференциальных уравнений второго порядка, а со счетных палочек в начальной школе. Искренне надеюсь, что слова мои звучат как вызов, а не как реквием.
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ #8_2022