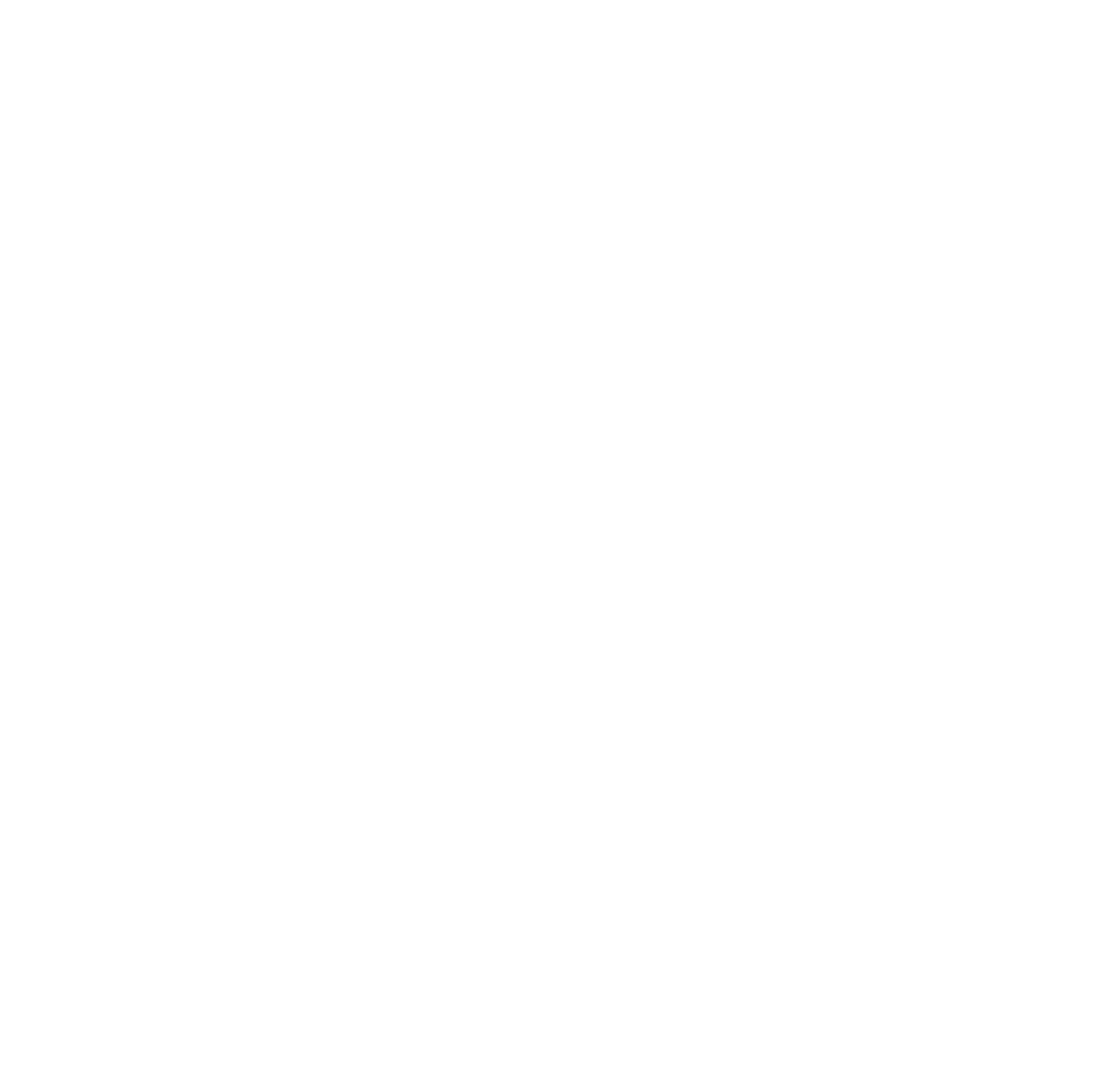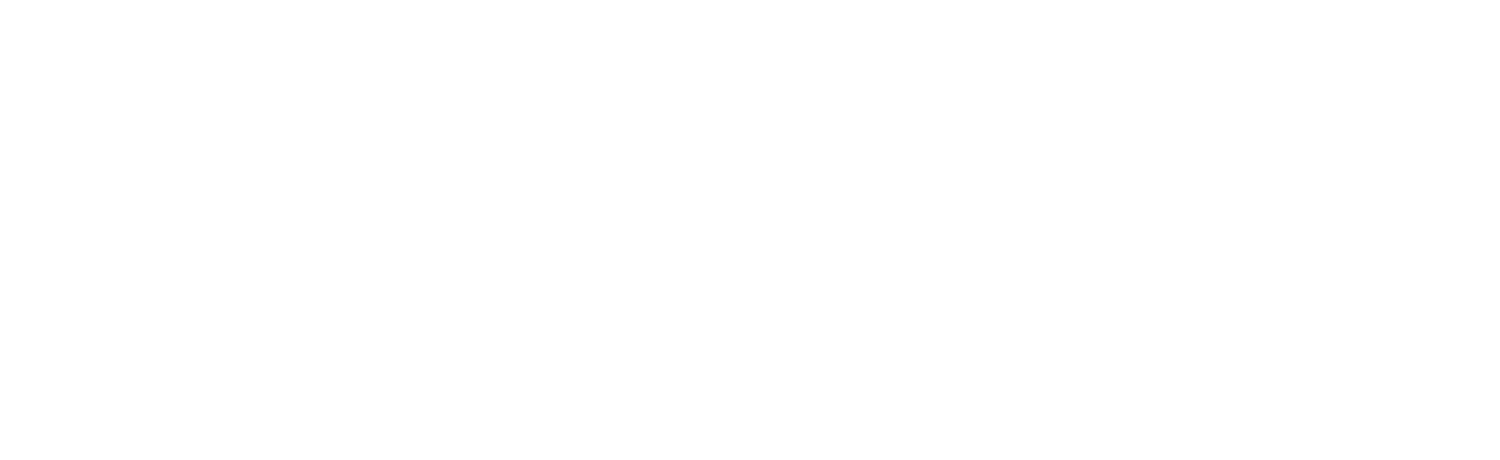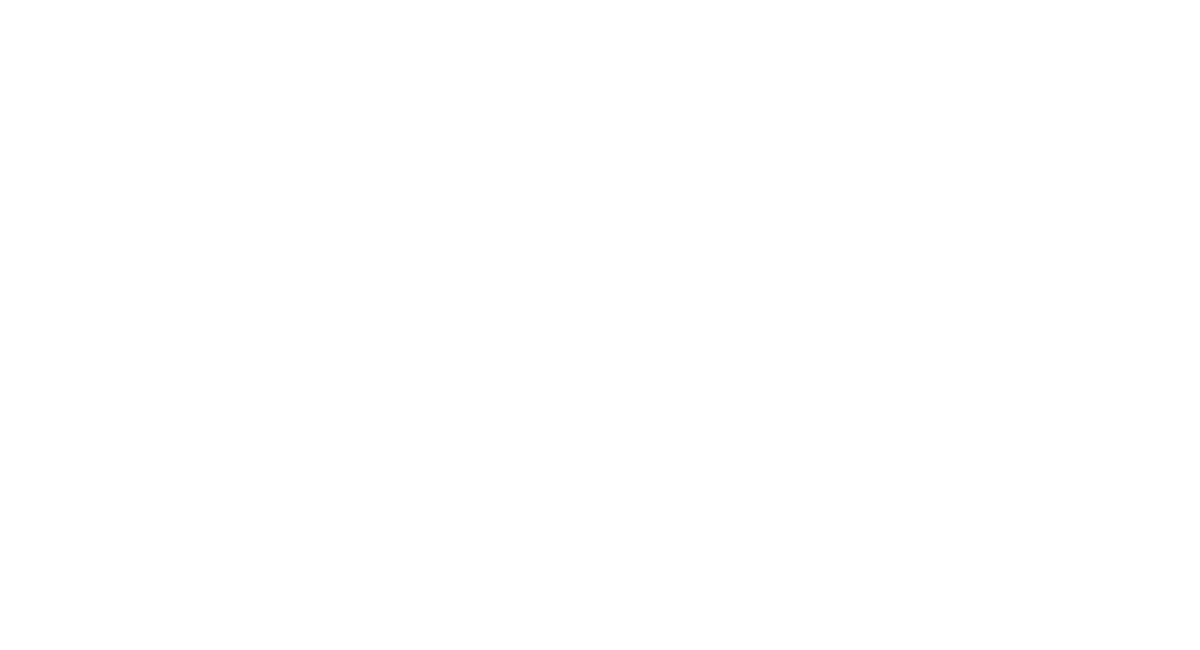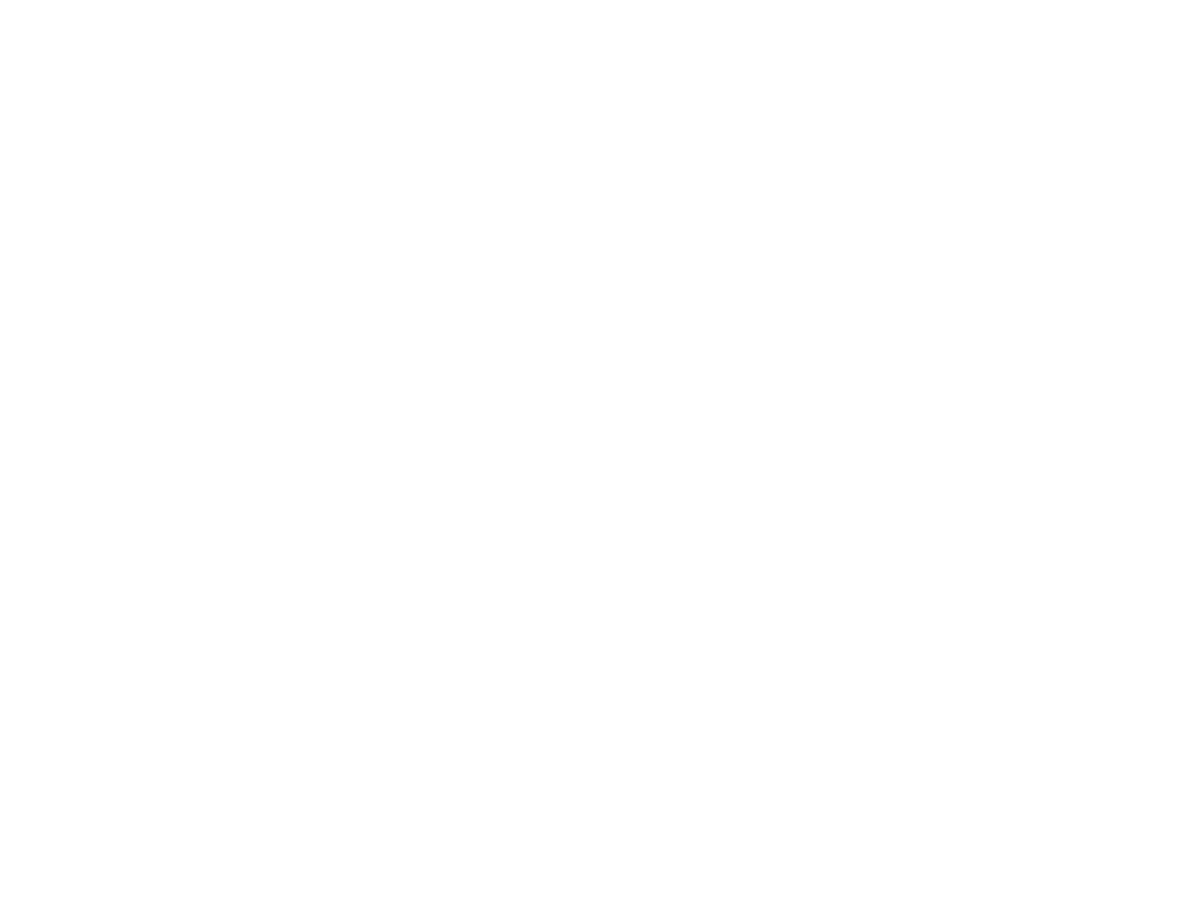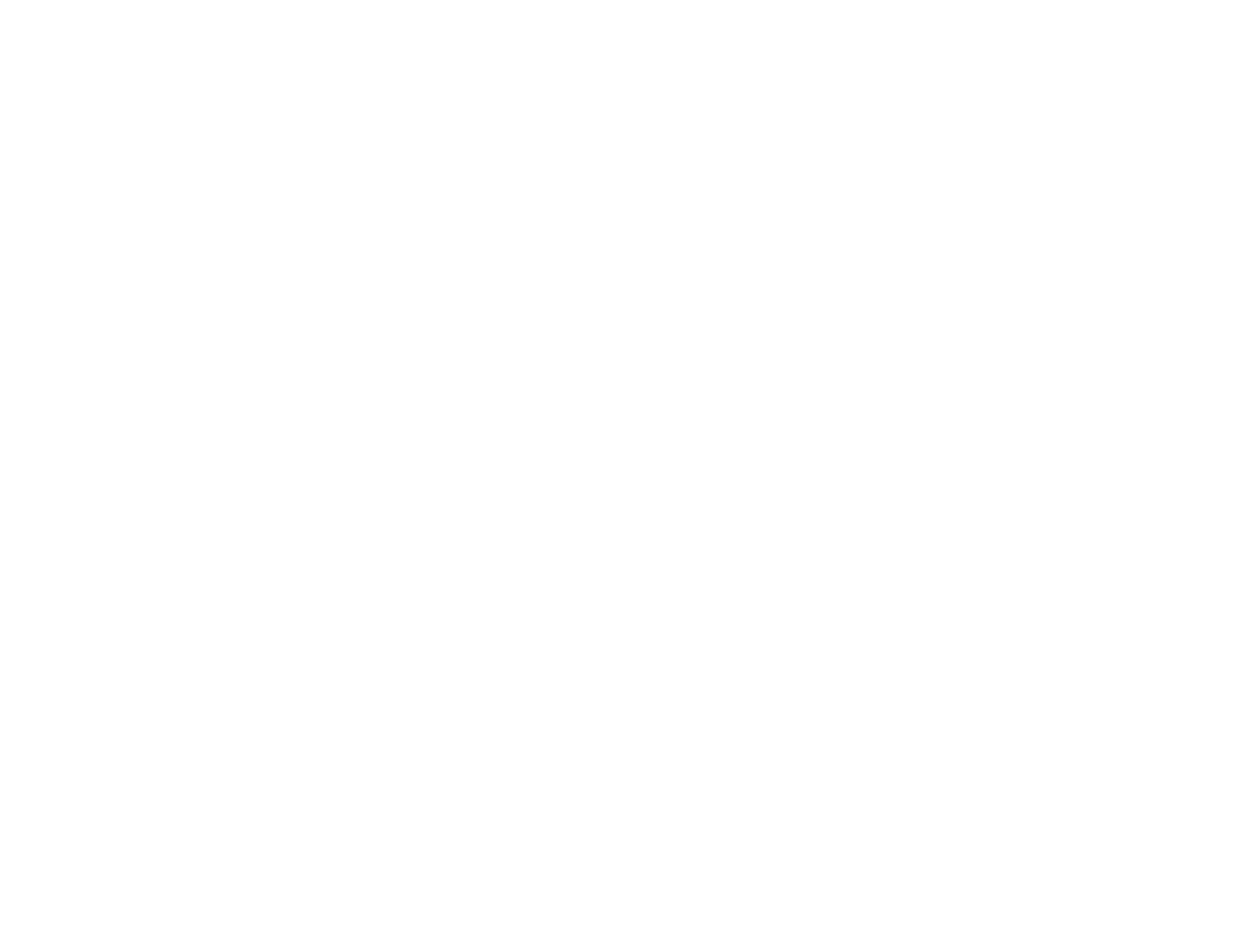Прикладная мифология
НАУКА / #7_2022
Текст: Наталия АНДРЕЕВА / Фото: ТАСС, Flickr/ U.S. Department of Energy, Ncsu.edu
Чтобы реализовать популярную нынче концепцию технологического суверенитета, российским управленцам от науки придется отказаться от многих привычных мифов, связанных с прикладными исследованиями.
Весь 2022 год от российской науки то и дело требуют чудес: то срочного импортозамещения всего и вся, то вклада в социально-экономическое развитие, то новых технологических стартапов, то единоличного построения технологического суверенитета, то еще чего-то.
При этом в сфере прикладных исследований — то есть тех самых, которые вроде бы должны решать все эти задачи, — в России сложилось несколько управленческих мифов, сильно мешающих реалистичному взгляду на их возможности и перспективы.
При этом в сфере прикладных исследований — то есть тех самых, которые вроде бы должны решать все эти задачи, — в России сложилось несколько управленческих мифов, сильно мешающих реалистичному взгляду на их возможности и перспективы.
Миф № 1. Прикладными исследованиями в России кто-то управляет
Государственное управление наукой — больной для России вопрос, который обостряется с завидной регулярностью: в 2013—2018 годах прошла реформа РАН (результаты которой две трети российских ученых считают негативными); в 2016‑м была принята «Стратегия научно-технологического развития России», предполагавшая «формирование эффективной современной системы управления в области науки, технологий и инноваций»; сейчас разрабатывается очередная концепция технологического развития на период до 2030 года, с новыми инструментами, механизмами и показателями.
Тем не менее к 2022 году кардинальных перемен в управлении наукой не произошло: инструменты поддержки по-прежнему работают на «науку в вакууме».
Если не считать венчурных фондов с их методиками «уровня готовности технологий» (УГТ), с управленческой точки зрения в России фактически не учитывается принципиальная разница между фундаментальными и прикладными исследованиями — и в части жизненного цикла (20−30 лет против 5−10), и в части целеполагания (приоритеты в фундаментальной науке должны определять сами исследователи; прикладным исследованиям нужен заказ со стороны экономики/государства), и пр.
Ни одно из федеральных министерств не отвечает за прикладные исследования в целом: в зоне ответственности Миннауки — фундаментальные и поисковые, Минпромторга — только его собственные федеральные научно-технические программы. Поэтому даже отраслевая наука, по содержанию очень близкая к прикладным исследованиям, которая могла бы стать лучом света в темном управленческом царстве, сейчас «размазана» по 34 государственным программам.
И наконец, прикладные исследования как объект управления в России не существуют даже с точки зрения государственной статистики. Конечно, формально Росстат собирает какие-то данные в разрезе «фундаментальные, прикладные исследования, разработки», но существующая статистика мало соотносится не то что с практикой принятия управленческих решений — даже с федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», согласно которому в России есть фундаментальные, прикладные, поисковые научные исследования — и, внезапно, экспериментальные разработки.
Государственное управление наукой — больной для России вопрос, который обостряется с завидной регулярностью: в 2013—2018 годах прошла реформа РАН (результаты которой две трети российских ученых считают негативными); в 2016‑м была принята «Стратегия научно-технологического развития России», предполагавшая «формирование эффективной современной системы управления в области науки, технологий и инноваций»; сейчас разрабатывается очередная концепция технологического развития на период до 2030 года, с новыми инструментами, механизмами и показателями.
Тем не менее к 2022 году кардинальных перемен в управлении наукой не произошло: инструменты поддержки по-прежнему работают на «науку в вакууме».
Если не считать венчурных фондов с их методиками «уровня готовности технологий» (УГТ), с управленческой точки зрения в России фактически не учитывается принципиальная разница между фундаментальными и прикладными исследованиями — и в части жизненного цикла (20−30 лет против 5−10), и в части целеполагания (приоритеты в фундаментальной науке должны определять сами исследователи; прикладным исследованиям нужен заказ со стороны экономики/государства), и пр.
Ни одно из федеральных министерств не отвечает за прикладные исследования в целом: в зоне ответственности Миннауки — фундаментальные и поисковые, Минпромторга — только его собственные федеральные научно-технические программы. Поэтому даже отраслевая наука, по содержанию очень близкая к прикладным исследованиям, которая могла бы стать лучом света в темном управленческом царстве, сейчас «размазана» по 34 государственным программам.
И наконец, прикладные исследования как объект управления в России не существуют даже с точки зрения государственной статистики. Конечно, формально Росстат собирает какие-то данные в разрезе «фундаментальные, прикладные исследования, разработки», но существующая статистика мало соотносится не то что с практикой принятия управленческих решений — даже с федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», согласно которому в России есть фундаментальные, прикладные, поисковые научные исследования — и, внезапно, экспериментальные разработки.
Миф № 2. В России финансируется масса прикладных разработок (которые почему-то не внедряются в экономику)
На поверхностный взгляд кажется, что прикладные исследования и практические разработки в России чувствуют себя гораздо лучше, чем фундаментальная наука: совокупно на них приходится более 80% всех внутренних затрат на науку в России.
На поверхностный взгляд кажется, что прикладные исследования и практические разработки в России чувствуют себя гораздо лучше, чем фундаментальная наука: совокупно на них приходится более 80% всех внутренних затрат на науку в России.
Внутренние затраты на научные исследования и разработки (по видам работ) в Российской Федерации, млрд руб.
Но дьявол, как обычно, кроется в деталях.
Во-первых, разработки, на которые приходится основная масса финансирования (внутренних затрат), далеко не всегда заканчиваются чем-то практическим. Если верить данным государственной статистики, только 20% денег идет на разработки, результатом которых становятся опытные промышленные образцы или серии продукции; остальные 80% то ли идут на проекты, которые заканчиваются ничем, то ли… Догадайтесь сами.
Во-вторых, все остальные НИОКР (хоть фундаментальные, хоть прикладные) тоже существуют в вакууме, не имеющем отношения ни к промышленности, ни, шире, к экономике: только треть финансирования исследований направлена на разработку новых / улучшение старых продуктов и процессов; на что идут остальные деньги, даже за вычетом фундаментальных исследований, — ни науке, ни экономике не известно.
Иными словами, «прикладная» ориентация научного финансирования в России — на самом деле совершенно не прикладная; в реальности на прикладные (хотя бы теоретически необходимые экономике) разработки идет не более 30% денег.
Во-первых, разработки, на которые приходится основная масса финансирования (внутренних затрат), далеко не всегда заканчиваются чем-то практическим. Если верить данным государственной статистики, только 20% денег идет на разработки, результатом которых становятся опытные промышленные образцы или серии продукции; остальные 80% то ли идут на проекты, которые заканчиваются ничем, то ли… Догадайтесь сами.
Во-вторых, все остальные НИОКР (хоть фундаментальные, хоть прикладные) тоже существуют в вакууме, не имеющем отношения ни к промышленности, ни, шире, к экономике: только треть финансирования исследований направлена на разработку новых / улучшение старых продуктов и процессов; на что идут остальные деньги, даже за вычетом фундаментальных исследований, — ни науке, ни экономике не известно.
Иными словами, «прикладная» ориентация научного финансирования в России — на самом деле совершенно не прикладная; в реальности на прикладные (хотя бы теоретически необходимые экономике) разработки идет не более 30% денег.
Выполненный объем отдельных видов работ и услуг (2020), %
Внутренние затраты на научные исследования и разработки (2020), %
Миф № 3. Людей нет, надо срочно всех перепрофилировать в прикладники
Нехватку прикладных исследователей и востребованных прикладных исследований предлагается преодолевать самыми разными способами: то срочно ориентировать всех ученых на прикладные разработки, то запретить гуманитариев, чтобы все немедленно стали технарями. И, как и в случае со всеми остальными мифами, суть — далеко не просто в нехватке людей.
Во-первых, ключевая кадровая проблема прикладных исследований — это не баланс между условными «фундаментальщиками» и «прикладниками», а общая сравнительно малая «человеческая» мощность российского научно-исследовательского комплекса: в нашей стране на 1 млн человек, занятых в экономике, приходится чуть больше 5 тыс. исследователей, в то время как в США — 10 тыс., а в Южной Корее — более 16 тыс. То есть кадровый дефицит у нас не в прикладных (или технических, или естественных) областях, а в науке в целом.
Не говоря уже о том, что нынешняя кадровая ситуация — производная от объемов финансирования науки, и на этом фоне предложения в духе «всем срочно переквалифицироваться в управдомы» выглядят странно.
Нехватку прикладных исследователей и востребованных прикладных исследований предлагается преодолевать самыми разными способами: то срочно ориентировать всех ученых на прикладные разработки, то запретить гуманитариев, чтобы все немедленно стали технарями. И, как и в случае со всеми остальными мифами, суть — далеко не просто в нехватке людей.
Во-первых, ключевая кадровая проблема прикладных исследований — это не баланс между условными «фундаментальщиками» и «прикладниками», а общая сравнительно малая «человеческая» мощность российского научно-исследовательского комплекса: в нашей стране на 1 млн человек, занятых в экономике, приходится чуть больше 5 тыс. исследователей, в то время как в США — 10 тыс., а в Южной Корее — более 16 тыс. То есть кадровый дефицит у нас не в прикладных (или технических, или естественных) областях, а в науке в целом.
Не говоря уже о том, что нынешняя кадровая ситуация — производная от объемов финансирования науки, и на этом фоне предложения в духе «всем срочно переквалифицироваться в управдомы» выглядят странно.
Численность исследователей по областям науки (2020), чел.
Количество исследователей на 1 млн занятых в экономике (2020), чел.
Во-вторых, почти половина российских исследователей занята в государственном секторе (НИИ, вузы), который по определению не может и не должен быть массово ориентирован на прикладные исследования. Даже в Китае, интенсивно финансирующем науку, доля «государственных» исследователей не превышает 20%, а в странах с развитой инновационно- и наукоемкой экономикой она составляет в среднем 5−7%.
Такая структура занятости, по сути, повторяет то, что, за неимением лучшего определения, можно назвать традиционным разделением труда в научно-исследовательском комплексе: в зоне ведения и ответственности государства находятся фундаментальные исследования; прикладные исследования и разработки естественным образом тяготеют к предпринимательскому/частному сектору.
Такая структура занятости, по сути, повторяет то, что, за неимением лучшего определения, можно назвать традиционным разделением труда в научно-исследовательском комплексе: в зоне ведения и ответственности государства находятся фундаментальные исследования; прикладные исследования и разработки естественным образом тяготеют к предпринимательскому/частному сектору.
Структура научно-исследовательского комплекса: исследователи в государственном и частном секторах
Именно с этим связана и странная ситуация, сложившаяся в сфере финансирования как бы прикладных исследований и разработок (см. Миф № 2). То, что формально считается прикладным, прикладным и применимым быть просто не может: за редкими исключениями, исследовательские команды/группы в государственных НИИ и вузах, никак не связанных с реальной экономикой, не обладают ни рыночной, ни производственной экспертизой, которая нужна для получения хотя бы потенциально применимого научного результата.
И дело тут не в злонамеренности исследователей, упорно не желающих давать стране угля, а в структуре российского научно-исследовательского комплекса.
Готовых рецептов для выхода из такой ситуации пока нет. Но мы готовы указать несколько возможных направлений для поиска решений.
И дело тут не в злонамеренности исследователей, упорно не желающих давать стране угля, а в структуре российского научно-исследовательского комплекса.
Готовых рецептов для выхода из такой ситуации пока нет. Но мы готовы указать несколько возможных направлений для поиска решений.
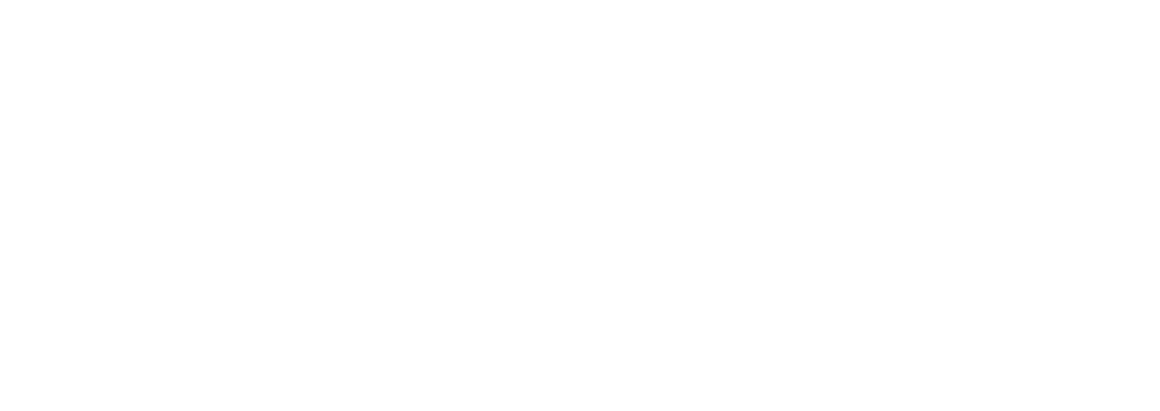
Найти объект
Для начала прикладные исследования и разработки должны наконец стать объектом управления. В идеале — частью пресловутой инновационной цепочки: от фундаментальных исследований до внедрения технологий/продуктов/процессов в промышленность.
Для превращения прикладных исследований в то, чем таки можно управлять, нужны четыре основных компонента.
Первый — понятная модель логического разделения научно-исследовательской и разработческой деятельности, на основе которой структурируются и финансирование, и управление, начиная с переформатирования зон ответственности профильных министерств и ведомств и заканчивая созданием нормальной системы отчетности и ключевых показателей эффективности научно-исследовательской деятельности.
Самый распространенный (и многократно апробированный в мире) вариант такой модели — метод «Уровни готовности технологий» (УГТ, technology readiness level, TRL), разработанный в 1970‑х в НАСА и к 2020‑м ставший обязательной частью программы практически для всех государств с обширной научной политикой и развитой высокотехнологичной промышленностью.
В России об УГТ как возможном подходе к управлению наукой говорят уже довольно давно, в последний раз речь о нем заходила на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию в феврале 2022 года: правительству РФ было поручено разработать механизм оценки результативности научных исследований и разработок, проводимых в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», с учетом уровней готовности технологий, а также установить требования к показателям, характеризующим эти уровни.
Но, как водится, изменение принципов финансирования — последнее, в чем заинтересованы нынешние его получатели, поэтому УГТ и инвестиционную логику вложений в исследования и разработки пока используют только российские венчуристы (Фонд «Сколково», Фонд содействия инновациям, Фонд инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО, Фонд развития интернет-инициатив) и отдельные крупные компании/госкорпорации. В стране силами нескольких министерств даже создан прототип цифровой платформы для движения стартапов «вверх по уровням готовности технологий» и для презентации их потенциальным инвесторам.
В прикладных же исследованиях, как и в науке в целом, никаких системных подвижек в сторону УГТ пока не видно. И вряд ли один доклад что-то кардинально изменит.
Возможно, делу поможет Национальная система оценки результативности научных исследований и разработок, способная в том или ином виде учитывать востребованность научных результатов промышленностью. Теоретически изменения могут стартовать также благодаря национальной инициативе «Платформа университетского технологического предпринимательства», которой без УГТ просто никуда, но это не точно; тем более что в российских вузах работает около 45 тыс. человек, т. е. всего 15% всех исследователей страны.
Для начала прикладные исследования и разработки должны наконец стать объектом управления. В идеале — частью пресловутой инновационной цепочки: от фундаментальных исследований до внедрения технологий/продуктов/процессов в промышленность.
Для превращения прикладных исследований в то, чем таки можно управлять, нужны четыре основных компонента.
Первый — понятная модель логического разделения научно-исследовательской и разработческой деятельности, на основе которой структурируются и финансирование, и управление, начиная с переформатирования зон ответственности профильных министерств и ведомств и заканчивая созданием нормальной системы отчетности и ключевых показателей эффективности научно-исследовательской деятельности.
Самый распространенный (и многократно апробированный в мире) вариант такой модели — метод «Уровни готовности технологий» (УГТ, technology readiness level, TRL), разработанный в 1970‑х в НАСА и к 2020‑м ставший обязательной частью программы практически для всех государств с обширной научной политикой и развитой высокотехнологичной промышленностью.
В России об УГТ как возможном подходе к управлению наукой говорят уже довольно давно, в последний раз речь о нем заходила на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию в феврале 2022 года: правительству РФ было поручено разработать механизм оценки результативности научных исследований и разработок, проводимых в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», с учетом уровней готовности технологий, а также установить требования к показателям, характеризующим эти уровни.
Но, как водится, изменение принципов финансирования — последнее, в чем заинтересованы нынешние его получатели, поэтому УГТ и инвестиционную логику вложений в исследования и разработки пока используют только российские венчуристы (Фонд «Сколково», Фонд содействия инновациям, Фонд инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО, Фонд развития интернет-инициатив) и отдельные крупные компании/госкорпорации. В стране силами нескольких министерств даже создан прототип цифровой платформы для движения стартапов «вверх по уровням готовности технологий» и для презентации их потенциальным инвесторам.
В прикладных же исследованиях, как и в науке в целом, никаких системных подвижек в сторону УГТ пока не видно. И вряд ли один доклад что-то кардинально изменит.
Возможно, делу поможет Национальная система оценки результативности научных исследований и разработок, способная в том или ином виде учитывать востребованность научных результатов промышленностью. Теоретически изменения могут стартовать также благодаря национальной инициативе «Платформа университетского технологического предпринимательства», которой без УГТ просто никуда, но это не точно; тем более что в российских вузах работает около 45 тыс. человек, т. е. всего 15% всех исследователей страны.
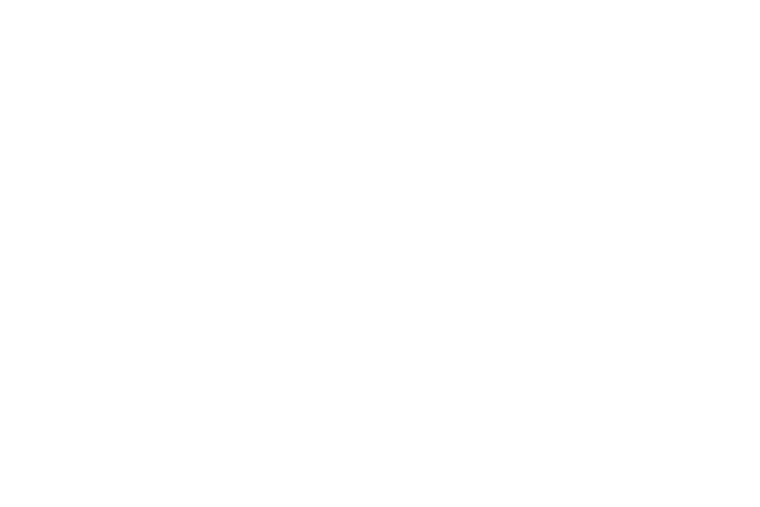
Второй компонент системы управления — внятные критерии и метрики, позволяющие оценивать научные группы и/или проекты с привязкой к прикладной, поисковой или фундаментальной направленности работы, а не «научные достижения в целом» — как это происходит при распределении большинства грантов РНФ: результативность исследований по-прежнему определяется количеством статей, а не применимостью результатов, РИД и пр. (причем, что характерно, количество статей используется как основная метрика даже в научных областях с очевидным практическим потенциалом, в том числе в генетических технологиях).
Кроме того, вопрос нормальных метрик для прикладных исследований и разработок возникает — и почти полностью игнорируется — при каждом обновлении федеральных программ развития, связанных с наукой. Например, в программу «Приоритет 2030» (после долгих и мучительных обсуждений) попал всего один целевой показатель, косвенно связанный с прикладными исследованиями или разработками, — «Объем средств, поступивших от выполнения НИОКР и оказания научно-технических услуг по договорам с организациями реального сектора экономики и за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации»… Да и тот — только для вузов, претендующих на специальную часть гранта — «Обеспечение социально-экономического развития территорий».
Третий компонент целевой системы управления — собственно оргструктуры, этим управлением занимающиеся.
С оргструктурами, отвечающими за прикладные исследования и разработки, дела обстоят не очень хорошо не только в России, но и у многих наших западных коллег.
Например, в США только в 2022 году было объявлено о том, что Национальный научный фонд (NSF) сможет наконец-то создать отдельное Управление по технологиям и инновациям, которое будет заниматься прикладными исследованиями, разработками и трансфером их в реальный мир; кроме того, американские коллеги планируют создать так называемые Институты будущего, которые будут заниматься исключительно коммерчески привлекательными технологическими направлениями/разработками.
До схожей идеи пару лет назад дошел и Евросоюз, включивший в очередную рамочную программу поддержки исследований Horizon Europe целый ряд подпрограмм и инициатив, связанных с развитием прикладных разработок и с применением новых технологий на практике (создание Европейского Совета по инновациям, развитие инфраструктур поддержки в университетах, поддержка апробации технологий и пр.).
Самая же экологичная — с точки зрения академической автономии и самоорганизации исследователей — система управления наукой в целом и прикладными исследованиями в частности сложилась в Германии. Управление и преемственность звеньев цепочки «фундаментальные исследования — прикладные исследования — экономика/инновации» обеспечиваются системой взаимосвязанных научных обществ и организаций. Так, Общество Макса Планка (и входящие в него исследовательские организации) отвечает за фундаментальные исследования; Общество Фраунгофера — за прикладные исследования для германской экономики и рынка; Ассоциация им. Г. Лейбница специализируется на междисциплинарных исследованиях и науке на стыке фундаментального и прикладного; Ассоциация им. Г. Геймгольца работает с «большими вызовами» и пр.
Но, судя по всему, германская модель, основанная на децентрализации (в стране, страшно сказать, нет единой академии наук — их семь, и все они финансируются из бюджетов федеральных земель), мало применима в России: во‑первых, ни у одного субъекта федерации, кроме разве что Москвы, нет средств на финансирование науки; во‑вторых, итоги российских управленческих экспериментов, связанных хоть с какой-то децентрализацией (например, инициативы создания Советов по приоритетам научно-технологического развития в рамках СНТР), очень неоднозначны.
Кроме того, постановка задач развития для прикладных исследований в ближайшие годы явно будет происходить не снизу: вице-премьер РФ Д. Чернышенко недавно объявил о грядущем появлении «научного спецназа» — руководителей по научно-технологическому развитию в федеральных (и, возможно, региональных) органах исполнительной власти. Пока, конечно, кажется, что это чисто ситуационная история, связанная с задачей срочного обеспечения технологического суверенитета и с высоким градусом неразберихи в отраслевых научно-технологических задачах и проблемах.
Тем не менее, если неразбериха в задачах, проблемах и приоритетах продолжится, вполне вероятно, что управление — а заодно весь бюджет, выделенный на прикладные исследования и разработки, — уйдет в профильные министерства, в первую очередь — в Минпромторг (как это случилось, например, в Швеции в 1998—2000‑х годах).
Кроме того, вопрос нормальных метрик для прикладных исследований и разработок возникает — и почти полностью игнорируется — при каждом обновлении федеральных программ развития, связанных с наукой. Например, в программу «Приоритет 2030» (после долгих и мучительных обсуждений) попал всего один целевой показатель, косвенно связанный с прикладными исследованиями или разработками, — «Объем средств, поступивших от выполнения НИОКР и оказания научно-технических услуг по договорам с организациями реального сектора экономики и за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации»… Да и тот — только для вузов, претендующих на специальную часть гранта — «Обеспечение социально-экономического развития территорий».
Третий компонент целевой системы управления — собственно оргструктуры, этим управлением занимающиеся.
С оргструктурами, отвечающими за прикладные исследования и разработки, дела обстоят не очень хорошо не только в России, но и у многих наших западных коллег.
Например, в США только в 2022 году было объявлено о том, что Национальный научный фонд (NSF) сможет наконец-то создать отдельное Управление по технологиям и инновациям, которое будет заниматься прикладными исследованиями, разработками и трансфером их в реальный мир; кроме того, американские коллеги планируют создать так называемые Институты будущего, которые будут заниматься исключительно коммерчески привлекательными технологическими направлениями/разработками.
До схожей идеи пару лет назад дошел и Евросоюз, включивший в очередную рамочную программу поддержки исследований Horizon Europe целый ряд подпрограмм и инициатив, связанных с развитием прикладных разработок и с применением новых технологий на практике (создание Европейского Совета по инновациям, развитие инфраструктур поддержки в университетах, поддержка апробации технологий и пр.).
Самая же экологичная — с точки зрения академической автономии и самоорганизации исследователей — система управления наукой в целом и прикладными исследованиями в частности сложилась в Германии. Управление и преемственность звеньев цепочки «фундаментальные исследования — прикладные исследования — экономика/инновации» обеспечиваются системой взаимосвязанных научных обществ и организаций. Так, Общество Макса Планка (и входящие в него исследовательские организации) отвечает за фундаментальные исследования; Общество Фраунгофера — за прикладные исследования для германской экономики и рынка; Ассоциация им. Г. Лейбница специализируется на междисциплинарных исследованиях и науке на стыке фундаментального и прикладного; Ассоциация им. Г. Геймгольца работает с «большими вызовами» и пр.
Но, судя по всему, германская модель, основанная на децентрализации (в стране, страшно сказать, нет единой академии наук — их семь, и все они финансируются из бюджетов федеральных земель), мало применима в России: во‑первых, ни у одного субъекта федерации, кроме разве что Москвы, нет средств на финансирование науки; во‑вторых, итоги российских управленческих экспериментов, связанных хоть с какой-то децентрализацией (например, инициативы создания Советов по приоритетам научно-технологического развития в рамках СНТР), очень неоднозначны.
Кроме того, постановка задач развития для прикладных исследований в ближайшие годы явно будет происходить не снизу: вице-премьер РФ Д. Чернышенко недавно объявил о грядущем появлении «научного спецназа» — руководителей по научно-технологическому развитию в федеральных (и, возможно, региональных) органах исполнительной власти. Пока, конечно, кажется, что это чисто ситуационная история, связанная с задачей срочного обеспечения технологического суверенитета и с высоким градусом неразберихи в отраслевых научно-технологических задачах и проблемах.
Тем не менее, если неразбериха в задачах, проблемах и приоритетах продолжится, вполне вероятно, что управление — а заодно весь бюджет, выделенный на прикладные исследования и разработки, — уйдет в профильные министерства, в первую очередь — в Минпромторг (как это случилось, например, в Швеции в 1998—2000‑х годах).
Война подходов
В 1998 году министерство образования Швеции решило реформировать систему государственного финансирования науки. В этой связи было проведено масштабное исследование Research 2000, основная рекомендация по итогам которого звучала примерно так: «Исследователям надо дать больше автономии, а финансирование вести через академические научные советы по секторам/темам».
Министерство промышленности Швеции, которому угрожала потеря всех бюджетов, объединилось с профсоюзами, промышленными ассоциациями и Агентством промышленного и технологического развития — и выступило с альтернативным предложением в духе: «Швеции срочно нужна инновационная экономика!» — позаимствовав его из концептуальных/стратегических документов Организации экономического сотрудничества и развития. Основным их посылом было то, что университеты и исследовательские центры — неотъемлемая часть инновационной системы страны, их автономия вредит шведской экономике и едва ли не угрожает национальной безопасности.
В результате идеологической кампании шведская общественность «купила» инновационную экономику, а не академическую автономию; министерство промышленности сохранило свои научно-исследовательские бюджеты; в Швеции появилась инновационная экономика. Вроде бы.
Министерство промышленности Швеции, которому угрожала потеря всех бюджетов, объединилось с профсоюзами, промышленными ассоциациями и Агентством промышленного и технологического развития — и выступило с альтернативным предложением в духе: «Швеции срочно нужна инновационная экономика!» — позаимствовав его из концептуальных/стратегических документов Организации экономического сотрудничества и развития. Основным их посылом было то, что университеты и исследовательские центры — неотъемлемая часть инновационной системы страны, их автономия вредит шведской экономике и едва ли не угрожает национальной безопасности.
В результате идеологической кампании шведская общественность «купила» инновационную экономику, а не академическую автономию; министерство промышленности сохранило свои научно-исследовательские бюджеты; в Швеции появилась инновационная экономика. Вроде бы.
И наконец, четвертый компонент системы управления — это механизм определения и реализации приоритетов (и, соответственно, распределения финансирования) для прикладных исследований. Поскольку появление «научного спецназа» в отраслевых министерствах влечет закономерный вопрос: каким таким магическим образом федеральные министерства и ведомства должны узнать о реальных технологических потребностях экономики/бизнеса? Опросы проводить?
В Китае эта задача решена весьма прямолинейно: в рамках 14‑й пятилетки часть масштабных научных проектов будет отдана на откуп крупным компаниям, в основном — из высокотехнологичного сектора; они получат государственное финансирование и после этого закажут соисполнителям из числа китайских университетов и исследовательских центров конкретные прикладные исследования/разработки.
В США схема вовлечения промышленности в определение приоритетов менее прямолинейна, но, как показала практика, достаточно эффективна: в последние 10−15 лет значительная часть новых окологосударственных научно-исследовательских центров, связанных с хоть сколько-нибудь прикладными направлениями, создавалась при обязательном участии промышленных компаний, причем участвуют они в деятельности центров не формально, а вполне реально: ставят реальные задачи и вкладывают реальные деньги (по модели «подписки»). Именно в такой логике, например, создана и работает сеть R&D-центров Manufacturing USA (бывшая программа America Makes), занимающихся новыми производственными технологиями (Industrie 4.0, аддитивные технологии и пр.).
То есть фактически и в Китае, и в США используются «включенное проектирование» приоритетов с опорой на промышленность и местами — венчур. Именно эти стратегии в инженерии позволяют избежать критических ошибок на самой ранней стадии разработки, а не в процессе эксплуатации конечного продукта.
Что в итоге получится в России — вопрос открытый, но понятно одно: в нынешних условиях привычный алгоритм приоритезации: «Собери пятьдесят экспертных групп, пусть они скажут что-нибудь умное», — в лучшем случае просто не сработает, а в худшем — приведет к управленческой катастрофе.
В Китае эта задача решена весьма прямолинейно: в рамках 14‑й пятилетки часть масштабных научных проектов будет отдана на откуп крупным компаниям, в основном — из высокотехнологичного сектора; они получат государственное финансирование и после этого закажут соисполнителям из числа китайских университетов и исследовательских центров конкретные прикладные исследования/разработки.
В США схема вовлечения промышленности в определение приоритетов менее прямолинейна, но, как показала практика, достаточно эффективна: в последние 10−15 лет значительная часть новых окологосударственных научно-исследовательских центров, связанных с хоть сколько-нибудь прикладными направлениями, создавалась при обязательном участии промышленных компаний, причем участвуют они в деятельности центров не формально, а вполне реально: ставят реальные задачи и вкладывают реальные деньги (по модели «подписки»). Именно в такой логике, например, создана и работает сеть R&D-центров Manufacturing USA (бывшая программа America Makes), занимающихся новыми производственными технологиями (Industrie 4.0, аддитивные технологии и пр.).
То есть фактически и в Китае, и в США используются «включенное проектирование» приоритетов с опорой на промышленность и местами — венчур. Именно эти стратегии в инженерии позволяют избежать критических ошибок на самой ранней стадии разработки, а не в процессе эксплуатации конечного продукта.
Что в итоге получится в России — вопрос открытый, но понятно одно: в нынешних условиях привычный алгоритм приоритезации: «Собери пятьдесят экспертных групп, пусть они скажут что-нибудь умное», — в лучшем случае просто не сработает, а в худшем — приведет к управленческой катастрофе.
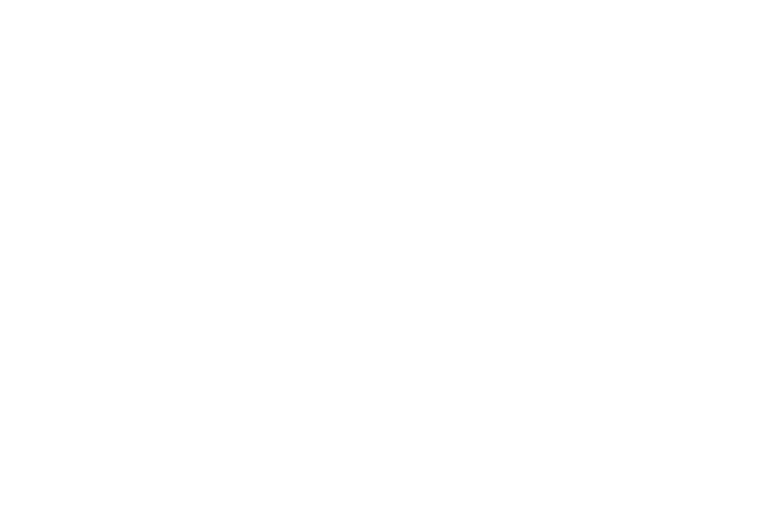
Найти исследователей
Что касается людей, которые должны заниматься прикладными исследованиями, то в нынешней экономической и управленческой ситуации взять их неоткуда (как и айтишников нужного уровня): массово готовить с нуля — долго и дорого, а переучить имеющихся условных фундаментальщиков невозможно, если не рассматривать всерьез вариант с шарашками и лагерями трудового перевоспитания. Поскольку, как уже было сказано, нынешняя кадровая ситуация — и в прикладных, и в фундаментальных исследованиях — производная от сложившейся системы финансирования с ее ориентацией на науку в вакууме, развитие которой измеряется преимущественно в научных публикациях.
Даже в том случае, если на горе все-таки свистнет рак и в стране появится политическая воля для того, чтобы ставка на прикладные исследования стала долгосрочной, а не ситуационной, трансформировать российскую систему подготовки так, чтобы она учитывала разницу между фундаментальными и прикладными исследованиями не только на уровне практики (в духе «к какому научному руководителю попал, в той колее и будешь жить в ближайшие 10 лет»), придется долго и мучительно.
И российская система подготовки исследователей, к сожалению или к счастью, не уникальна: так устроено «научное» образование в очень многих странах.
Но, как водится, есть одно важное «но»: как отдельные зарубежные университеты, так и некоторые большие государственные и межгосударственные кадровые программы, направленные на подготовку исследователей, все-таки ориентируются на многообразие возможных карьерных траекторий для людей науки.
Например, уже ставший хрестоматийным европейский проект развития исследовательских навыков и компетенций EURAXESS предоставляет как начинающим, так и опытным исследователям три возможности: карьера в академии (в университетах и исследовательских центрах, тяготеющих к фундаментальным исследованиям); в бизнесе/индустрии (от горнодобывающей отрасли до современных медиа), которым требуются прикладники; карьера в качестве предпринимателя. А в Австрии, Греции и еще нескольких странах ЕС реализуются программы подготовки исследователей, ориентированных на промышленность и, шире, бизнес-сектор.
К сожалению, в России на системном уровне все это пока малоприменимо. Можно сколько угодно менять ФГОСы, образовательные программы и пр., ориентируясь на нужные прикладникам навыки. Но до тех пор, пока в российском научно-исследовательском комплексе будет доминировать государственный сектор, ориентированный на фундаменталку и имитирующий прикладные исследования, прикладникам — сколь угодно образованным — будет просто некуда податься. Не говоря уже о том, что им сложно найти место в нынешней системе распределения научного финансирования.
Так что прямо сейчас можно, пожалуй, только скорректировать общие подходы к подготовке научных кадров, включив туда не только навыки условного академического письма, но и специфические умения и компетенции, необходимые исследователям-прикладникам — и представителям академии, работающим с промышленностью, и исследователям, занятым в предпринимательском секторе.
И сработает это только в том случае, если какие-нибудь смелые университеты в порядке эксперимента начнут готовить будущих исследователей не только к чисто академической карьере, но и, скажем, к карьере в контуре своих промышленных партнеров.
Что касается людей, которые должны заниматься прикладными исследованиями, то в нынешней экономической и управленческой ситуации взять их неоткуда (как и айтишников нужного уровня): массово готовить с нуля — долго и дорого, а переучить имеющихся условных фундаментальщиков невозможно, если не рассматривать всерьез вариант с шарашками и лагерями трудового перевоспитания. Поскольку, как уже было сказано, нынешняя кадровая ситуация — и в прикладных, и в фундаментальных исследованиях — производная от сложившейся системы финансирования с ее ориентацией на науку в вакууме, развитие которой измеряется преимущественно в научных публикациях.
Даже в том случае, если на горе все-таки свистнет рак и в стране появится политическая воля для того, чтобы ставка на прикладные исследования стала долгосрочной, а не ситуационной, трансформировать российскую систему подготовки так, чтобы она учитывала разницу между фундаментальными и прикладными исследованиями не только на уровне практики (в духе «к какому научному руководителю попал, в той колее и будешь жить в ближайшие 10 лет»), придется долго и мучительно.
И российская система подготовки исследователей, к сожалению или к счастью, не уникальна: так устроено «научное» образование в очень многих странах.
Но, как водится, есть одно важное «но»: как отдельные зарубежные университеты, так и некоторые большие государственные и межгосударственные кадровые программы, направленные на подготовку исследователей, все-таки ориентируются на многообразие возможных карьерных траекторий для людей науки.
Например, уже ставший хрестоматийным европейский проект развития исследовательских навыков и компетенций EURAXESS предоставляет как начинающим, так и опытным исследователям три возможности: карьера в академии (в университетах и исследовательских центрах, тяготеющих к фундаментальным исследованиям); в бизнесе/индустрии (от горнодобывающей отрасли до современных медиа), которым требуются прикладники; карьера в качестве предпринимателя. А в Австрии, Греции и еще нескольких странах ЕС реализуются программы подготовки исследователей, ориентированных на промышленность и, шире, бизнес-сектор.
К сожалению, в России на системном уровне все это пока малоприменимо. Можно сколько угодно менять ФГОСы, образовательные программы и пр., ориентируясь на нужные прикладникам навыки. Но до тех пор, пока в российском научно-исследовательском комплексе будет доминировать государственный сектор, ориентированный на фундаменталку и имитирующий прикладные исследования, прикладникам — сколь угодно образованным — будет просто некуда податься. Не говоря уже о том, что им сложно найти место в нынешней системе распределения научного финансирования.
Так что прямо сейчас можно, пожалуй, только скорректировать общие подходы к подготовке научных кадров, включив туда не только навыки условного академического письма, но и специфические умения и компетенции, необходимые исследователям-прикладникам — и представителям академии, работающим с промышленностью, и исследователям, занятым в предпринимательском секторе.
И сработает это только в том случае, если какие-нибудь смелые университеты в порядке эксперимента начнут готовить будущих исследователей не только к чисто академической карьере, но и, скажем, к карьере в контуре своих промышленных партнеров.
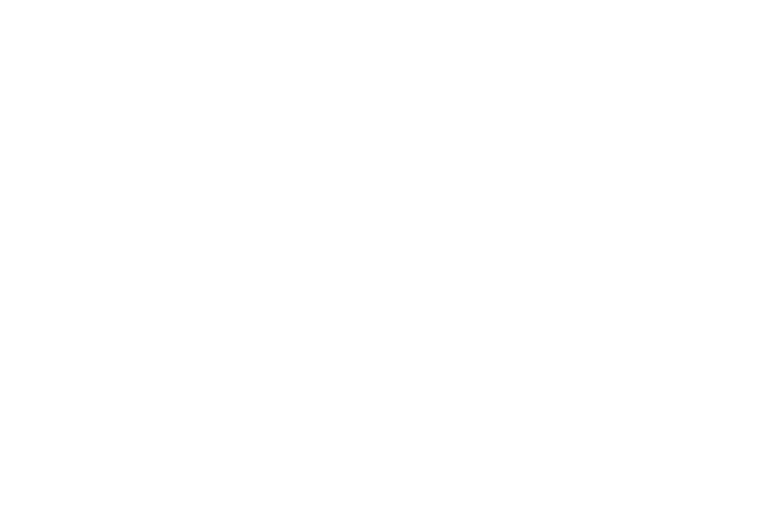
Не ошибиться
В целом складывается ощущение, что рисков в нынешнем «прикладном повороте» пока больше, чем возможностей.
И самый очевидный риск — это жесткое перераспределение финансирования в сторону прикладных исследований и разработок.
Понятно, что 25 отраслевых планов импортозамещения (Минпромторг) сами себя не выполнят и что в ближайшие годы нас ожидает чисто ситуационное управление исследованиями и разработками.
Но затяжное сокращение финансирования фундаментальных исследований чревато тем, что Россия может пропустить следующие большие научные прорывы — и через 20−30 лет остаться у технологического разбитого корыта.
Именно это случилось в свое время с Китаем. Главным научным приоритетом прикладные промышленные исследования сделал еще Дэн Сяопин в конце 1970 — начале 1980‑х, последовательно сокращая финансирование фундаментальной науки (в 2000‑х годах его доля не превышала 5%), а разбираться с последствиями этого решения стране приходится прямо сейчас: в 2019 году Си Цзиньпин признал, что ключевые технологии нынешней и следующей «технологических волн» страна должна разрабатывать сама, и начал реализацию политики по расшивке «технологических бутылочных горлышек».
Помимо риска фундаментального отставания есть несколько менее очевидных, но не менее реальных рисков: разброд и шатание в академическом сообществе (как и всегда во время перераспределения бюджетов); потеря научных кадров из-за вынужденной «переквалификации в управдомы»; наконец, слом социальных лифтов.
Остается надеяться, что ценой краткосрочного технологического суверенитета не станет наше светлое технологическое будущее.
В целом складывается ощущение, что рисков в нынешнем «прикладном повороте» пока больше, чем возможностей.
И самый очевидный риск — это жесткое перераспределение финансирования в сторону прикладных исследований и разработок.
Понятно, что 25 отраслевых планов импортозамещения (Минпромторг) сами себя не выполнят и что в ближайшие годы нас ожидает чисто ситуационное управление исследованиями и разработками.
Но затяжное сокращение финансирования фундаментальных исследований чревато тем, что Россия может пропустить следующие большие научные прорывы — и через 20−30 лет остаться у технологического разбитого корыта.
Именно это случилось в свое время с Китаем. Главным научным приоритетом прикладные промышленные исследования сделал еще Дэн Сяопин в конце 1970 — начале 1980‑х, последовательно сокращая финансирование фундаментальной науки (в 2000‑х годах его доля не превышала 5%), а разбираться с последствиями этого решения стране приходится прямо сейчас: в 2019 году Си Цзиньпин признал, что ключевые технологии нынешней и следующей «технологических волн» страна должна разрабатывать сама, и начал реализацию политики по расшивке «технологических бутылочных горлышек».
Помимо риска фундаментального отставания есть несколько менее очевидных, но не менее реальных рисков: разброд и шатание в академическом сообществе (как и всегда во время перераспределения бюджетов); потеря научных кадров из-за вынужденной «переквалификации в управдомы»; наконец, слом социальных лифтов.
Остается надеяться, что ценой краткосрочного технологического суверенитета не станет наше светлое технологическое будущее.
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ #7_2022